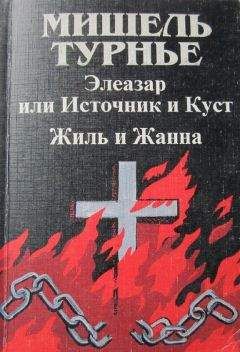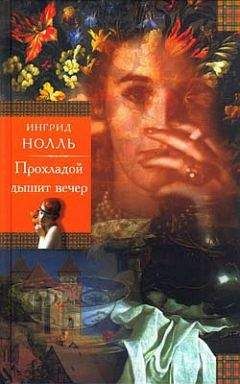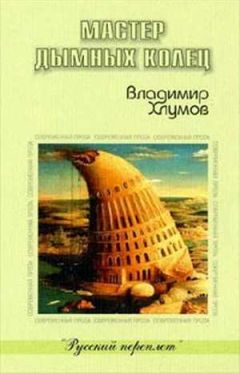– Математику? – уточнил Завенягин.
– Нет.
– Физику?
– Пение.
– Пение?
– Простительно детям недооценивать роли пения как части музыки, части искусства. Но вы же образованный человек! Физика всего лишь средство. А музыка это сама цель. Мир спасёт красота, Это же общеизвестно!
– Продолжайте, – кивнул Завенягин.
– Нашим детям здесь, в Норильске, многого не хватает. Витаминов, свежих овощей, фруктов, солнца, длинного лета…
– Может, с другого конца будет короче? Чего хватает?
– Но есть нечто, чего они лишены искусственно. Музыки. А в ней есть всё. Кроме, может быть, витаминов. Дети чувствуют музыку всем своим существом. Поэтому они все талантливы.
– А взрослые почему-то не все, – заметил Завенягин. – Почему?
– Да, вы правы, не все.
– Может, и дети не все?
– Нет, все! Дети все! Просто есть нормально талантливые, а есть необычно талантливые. Вот из них мне бы хотелось создать хор. Небольшой, камерный. Но мне очень трудно работать а капелла, я уже не могу своим голосом подчинить их. И, понимаете, очень нужен инструмент.
– Рояль?
– Вы уж скажете – рояль! Если уж так мечтать – оркестр, музыкальная школа, цикл вечеров «Норильская осень».
– Лучше зима.
– Почему?
– Длиннее. Можно больше концертов дать. И они нужней.
– А что, правильно!
– Если не рояль – что? – спросил Завенягин.
– Даже боюсь сказать… Аккордеон.
– Где же его взять?
– Я потому и пришла. Есть. В ОРСе. Вчера привезли. Два. Один уже купили, а второй ещё нет. Но могут, в любую минуту!
– Сколько же он стоит?
– Дорого. Очень. Даже боюсь сказать… Три тысячи двести сорок рублей! Что, очень?
– Жуть! – согласился Завенягин. Быстро написал записку и протянул Надежде Марковне. – Передайте начальнику ОРСа. На концерт пригласите?
– Ваше место в первом ряду!..
Вслед за учительницей Завенягин вышел в приёмную, в ответ на вопросительный взгляд секретаря проговорил:
– Дело, действительно, очень важное. А знаете ли вы, молодой человек, что мир спасёт красота?
– Авраамий Павлович, вы это серьёзно?
– А между тем это общеизвестно.
– От чего спасёт? От фашизма?
– Видимо, да. В том числе.
– Пора бы ей начинать. Передали сегодня: Муссолини готовит вторжение в Абиссинию. Но я всё равно верю, что абиссинский пролетариат… Авраамий Павлович, там пролетариат-то хоть есть?
– Пролетариат, Саша, есть везде.
Застучал телеграфный аппарат. Саша подхватил ленту, прочитал:
– Из Москвы, молния… «Норильск, кандидату в члены ЦК ВКП(б) Завенягину… Вам надлежит прибыть в Москву… для участия в работе Восемнадцатого съезда партии…» Просят подтвердить получение.
– Подтверди.
– Значит, будет разговор и о нас, о комбинате?
– Возможно. Наверное… Наверняка!.. Неужели не буду понят?
– Штейн возьмёте?
– Да. Да, возьму. Неужели и к тому времени ватержакет не пустим?
Телефонный звонок. Саша привычно взял трубку:
– Управление!.. Понял, сейчас передам.
– Что ещё? – насторожился Завенягин.
– Проело ванну. Вся плавка ушла в поддон…
Через несколько дней. Из репродуктора несутся долгие, очень долгие аплодисменты, какими делегаты съездов встречали появление в президиуме членов правительства во главе со Сталиным. Саша убавил громкость, взялся за телефон.
– Малый металлургический мне!.. Что у вас?.. Да никто вас не дергает!.. Все такие нервные стали!..
В приёмную быстро входят Воронцов, Шаройко и Васин. Они в грязных, обгорелых куртках плавильщиков.
– Передавай, – приказывает Воронцов. – «Москва… Кремль, Восемнадцатый съезд партии… Завенягину… Докладываем. Шестнадцатого марта на Малом металлургическом заводе пущен ватержакет, получены первые семьдесят пять тонн штейна… Монтаж конвертора закончим к первому апреля…»
Через несколько часов поступила ответная телеграмма:
«Спасибо за хорошие новости. Наши предложения вызвали интерес у членов правительства. В ближайшие дни доклад у тов.
Сталина. Завенягин».
Резкий взрыв перекрыл все звуки стройки, чёрно-багровое пламя взметнулось в полгоризонта, часто, тревожно забили железом по рельсу. Бросился к телефону Саша, вскочили с мест и приникли к окнам все, кто был приёмной. Отрывисто переговаривались:
– Горит бензохранилище?
– Похоже…
– Пожарка, алло! – кричал Саша. – Что случилось?.. Алло!..
С улицы вбежал Завенягин, оттеснил Сашу от телефона.
– Дежурный? Завенягин. Докладывайте!.. Понял. – Бросил трубку. – Пожар на бензохранилище!..
Когда Завенягин приехал на место пожара, основное пламя уже погасили. Только редкие багровые вспышки черными контурами освещали фигуры людей. Слышались голоса:
– Песок!.. Окапывать по контуру!.. Отставить воду, только песок!.. Быстрей, не пустить огонь к ёмкостям!..
Мелькали лопаты, двигались заключённые в чёрных бушлатах. И бил по нервам непрерывный звук ударов железом по рельсу. Пламя, наконец, отступило. Звон прекратился. На отвоёванной у огня площадке сгрудились люди – в обгорелой одежде, с закопчёнными лицами. Среди них лётчик Мешков. Лишь откуда-то сбоку ещё вырывались языки дымного пламени и тогда багровые блики отражались на лицах, переплетениях конструкций и цистернах.
– Что там за огонь? – спросил Завенягин.
– Это из-под воды, не страшно, – ответили из толпы.
– Что произошло? Кто видел?
– Я видел, там вон стоял, – ответил один из заключённых. – Шофёр бензовоза горючку в бочку сливал. То ли шланг у него соскочил, то ли порвался, сами знаете, какие у нас шланги. Я гляжу: хлещет горючка. Только крикнул ему: гляди, и тут… Может, искра. Может, ещё что. Сразу полыхнуло…
– В приказ, – обернулся Завенягин к Саше. – Создать комиссию. Виновных под суд. Ещё немного, и мы остались бы без горючего на всю зиму!.. Где бензовоз?
– Так в озере. Из него и вытекает бензин, на воду, он и горит.
– Что был за взрыв? Все ёмкости целы. Что взорвалось?
– Это я уже сам видел, – вмешался Мешков. – Я за горючим приехал. Когда бензин вспыхнул, я к нему кинулся, с песком. Вижу – не успеваю, рванёт цистерна. И тут какой-то человек вскочил в кабину и машина поехала. Вниз, под откос. Я даже не понял, завёл он её или не завёл. А внизу озерцо, маленькое, вон оно. Метра не хватило, у самой воды бочка рванула. Этот взрыв вы и видели.
– Кто отогнал бензовоз? – продолжал Завенягин. – Водитель?
– Нет. Водителя сразу… Облило бензином, когда шланг порвался. Какой-то работяга, рядом бригада была. У бригадира нужно спросить.
– Найти бригадира.
– Здесь я, – выдвинулась из толпы чёрная фигура. – Наш был, верно. Мы моргнуть не успели, а он кинул кирку и туда. Мы и не знали, что он с машинами обращаться умеет. Хотя, с другой стороны, танкист.
– Его фамилия?
– Сахновский…
Вернувшись в управление, Завенягин умылся. Спросил у секретаря:
– Что у нас сегодня?
– Совещание с металлургами. О потерях металла при продувке штейна в конверторах. Назначено на шестнадцать.
– Перенеси на завтра. Ещё?
– В восемнадцать школа. Концерт детского хора. Приходила учительница, напоминала. Говорит, вы обещали. Не пойдёте?
– Красота спасёт мир. Раз обещал, пойду. Детей нельзя обманывать.
– А взрослых, Авраамий Павлович?
– Взрослых, Саша, тоже нельзя…
Концерт уже шёл, когда Завенягин появился в классной комнате и тихо, стараясь не привлекать внимания, пристроился на тесной для него парте. Человек восемь малышей в чёрных сатиновых шароварах и в белых рубашках стояли полукругом. Надежда Марковна, в старомодном концертном платье со стеклярусом, с громоздким, сверкающим перламутром аккордеоне, который покоился у неё на коленях на фланелевой тряпочке, вела концерт.
– Прогрессивный немецкий композитор Людвиг ванн Бетховен, «Сурок», – объявила она и взяла первый аккорд.
Из край в край вперёд иду
И мой сурок со мною.
Под вечер кров себе найду
И мой сурок со мною.
Кусочки хлеба нам дарят…
Завенягин прикрыл глаза и вновь в полнеба полыхнуло багрово-чёрное пламя, забил тревожный набат и, заглушив жалкие детские голоса, грянул Реквием Верди, та часть его, «Туба мирум», в которой, как пишут музыковеды, «грозные фанфары, возвещающие час мировой катастрофа, звучат всё ближе и ближе. В момент наивысшего напряжения вступает величественная мрачная фраза хора. Напряженное звучание хора и оркестра обрывается резко и неожиданно, сменяясь приглушенным замиранием соло басов в ритме похоронного марша».
И когда были отпеты и оплаканы все, кто отдал свои жизни, чтобы вдохнуть жизнь в эти мерзлые тундры, и все, кто свои жизни ещё отдаст, в кабинете Завенягина, наполненном призрачным светом затухающего полярного дня, появился Орджоникидзе – таким, каким его помнил Завенягин в лучшие, самые счастливые минуты своей жизни.