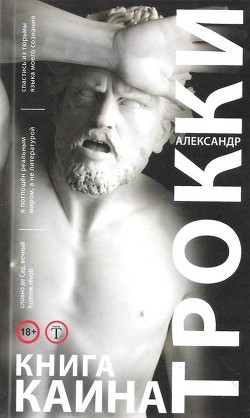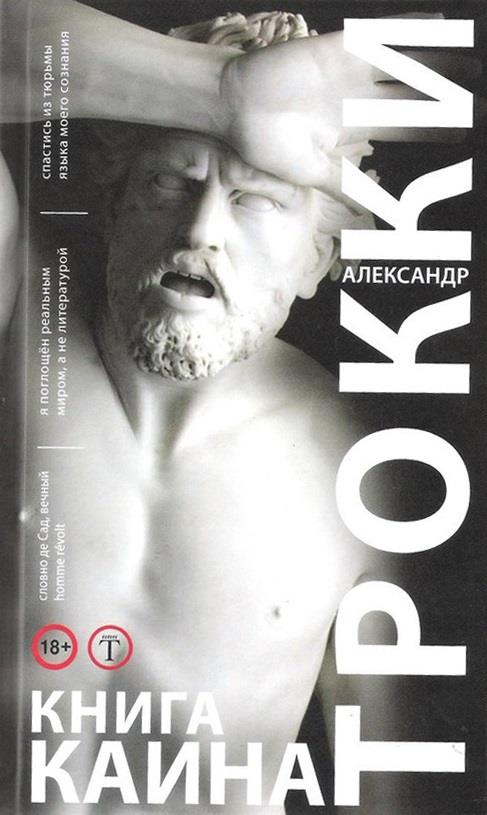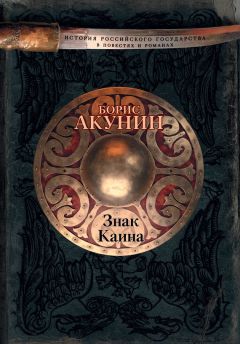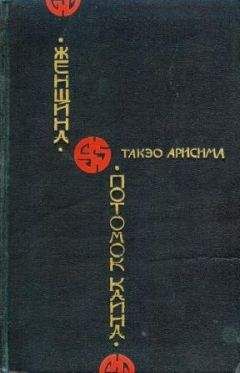Отец, как и дядя, любил снова и снова вспоминать про Каир, Яффу, — апельсины там здоровенные, просто не апельсины, а дыни, — и Суэц, пересказывать историю, как его ранило в голову шрапнелью — осторожно ощупывая пальцами скальп — и в итоге его «списали», отправив в генеральный госпиталь, а оттуда — домой в родную Англию. Так как он нежно выговаривал это словосочетание, я не переставал удивляться, как это он упустил связь между возвращением домой и к тому, к чему он возвратился — возвратился ли он? Поскольку складывалось впечатление, что прошедшие годы и обрывки воспоминаний были единственным позитивом во всей его жизни. После пары стаканов он непременно заговаривал о них, и с того самого дня, как он ступил на английскую землю, он не знал ничего, кроме унижения. Я вырос в мире, где о папиной безработице упоминалось лишь сдержанным шепотом и ни в коем случае не в присутствии гостей. Вот это было время, Джо! Конечно, ты был слишком мал! Отличный скотч, знаешь почем? 7/6 баксов за пузырь, представляешь! Апельсины в Яффе — хочешь сам рви, хочешь — найми черномазого за пару акеров[41], столько подержанная мебель стоила; очень плохо, что ты не обзаводишься домом, могу подсказать дешевый вариант, есть знакомый агент, Сильверштейн, отличная контора в Ист-Энде, с евреями стоит иметь дело. Видел, как мужика в Центральном Уголовном осудили, пятнадцать тысяч золотых часов, за контрабанду, ты подумай! Ничего удивительного, подоходный налог, чертовы грабители… разговоры, оканчивающиеся его замечанием о чьей-то смерти, о новостях из рубрики с некрологами. Будто, повествуя безмолвно о чужой скорби, печатные заметки сообщали, что его время истекает.
Я долго сидел, размышляя об отце, в гостиничном холле, где, дабы разогнать припозднившихся бухариков, погасили почти все лампы. Почти все расползлись, осталась всего одна тётка со стеатомой, и та норовила подольше скрываться в буфетной комнате. Но я начал находить удовольствие в унылости и опустошённости помещения.
Убийца зашёл и сел на некотором расстоянии за столик, единственный, кроме моего, где ещё горела лампа. Я засёк его появление, едва он зашел, но это было словно я удерживал в памяти его визуальный образ в бессознательном состоянии и не совсем связанный с тем, что в настоящий момент я воспринимал. Плоский его образ, лишенный контура, в те десять минут, в течение которых я продолжал скользить взглядом по полым нишам помещения, безвкусной их навороченности, с точки зрения профессионального штукатура, среди теней, в прямоугольном сумраке потолка. Эта пустота, эта сырость, запах лежалого пепла, спирали голубоватого дыма — всё это поднималось наверх под крышу и собиралось в накрапывающее переменчивое облако, как это бывает в зрительном зале, опустевшем после представления. Потом вдруг — минут за десять, по-моему — я неожиданно понял, что он сидит за освещенным столиком, словно поджидая, а это он и делал, белая клякса лица и тёмно-синий костюм, и мне показалось, что он пожилого возраста.
В следующий миг показалась стеатома и пошла к его столику. Возможно, из-за неё я обратил на него внимание. Я уже чувствовал её беспокойство и догадывался, что сам факт появления нового клиента её сильно взбодрил. А я таким образом срывался с крючка.
А потом мы оба сидели во всем том вакууме, и я неожиданно сообразил, что, пожелай один из нас обратиться к другому, ему придется закричать во весь голос. А стоит мне заговорить в полный голос, со всех сторон сбегутся должностные лица, швейцары, портье, ночные клерки, горничные, с целью засвидетельствовать бред сумасшедшего.
Но вышло иначе. Когда наш джентльмен открыл рот, он заговорил пронзительным голосом, но не громко.
— Вы не из Лондона?
Я ожидал, что он обратиться ко мне и был застигнут врасплох. Начал было отвечать «да», но оно сползло до ничего не значащего жеста рукой, который означал огромное пространство помещения и невозможность поддерживать разумную беседу на таком большом расстоянии. Он поднялся и приблизился. — Сяду здесь, не к чему орать. — поведал он мне, а я поймал себя на соглашающейся улыбке. Теперь он здесь по твоему недвусмысленному приглашению, размышлял я. Всё, что происходит — твоих рук дело. Стол, мужик, блеклый свет, стеатома, подворовывающая пирожные в кладовой. Он что-то собирался сказать, но я опустил ладонь ему на бедро в непосредственной близости от паха и посмотрел ему в глаза. Он напоминал оглушённую рыбу, здоровую треску, распластанную на мраморе. У него отвисла челюсть. Затем он отодвинулся, стараясь сбросить мою ладонь, вцепившуюся в него как крюк в говядину, и его лукавая и вкрадчивая физиономия резко подскочила к моей роже, с выражением, заставляющим вспомнить, что не стоит светиться возле кладовой, где, видимо, трудится стеатома.
— Не здесь! — шепнул он беззвучно.
Тут мне ни с того ни с сего пришло в голову, что лизни я его в лицо, как это свойственно коровам, он непременно взвизгнет.
Когда я встал, чтобы идти в свой номер, он оставался за столом (откуда, конечно, он так и не поднимался). Я прошел через холл в фойе, потом на улицу, где моросил дождик. Ночь в Лондоне, думал я. Господи Боже мой, да иди ты спать, нечего тут записывать!
12
«… двести девочек в возрасте от пяти до двенадцати лет: достаточно поизмывавшись над ними своими распутными экспериментами, я их съедаю.»
— Д.-А.Ф. де Сад
— Способность любить? — переспросил Джео. — Ничего не могу сказать об этом. В Джоди я заметил способность ширяться.
Мона пыталась отыскать работу в Индокитае, и от одной мысли о жизни в этой стране Джео кончал. Я надеялся, что у неё получится. Она бывала на баржах только по выходным, как и некоторые другие женщины, на неделе работавшие. Пока тётки при деле, как правило, они лучше выглядят.
Мона сказала мне:
— Я больше не ребенок, Джо. Мне двадцать два. Я знаю, Джео не может завязать с хмурым, по крайней мере, сейчас, но я хочу четко представлять, что будет со мной. Мне плевать, хороший он художник или нет. Он не пишет картин. Не писал уже год. Но я желаю знать, хочет ли он, чтобы я была с ним. Его заработка на баржах ему не хватает на жизнь. Он вечно в долгах и не замечает, сколько он на самом деле из меня тянет. Я не только про деньги, Джо.
Что можно ответить Моне?
— Она клёвая, — говорил Джео, — в смысле, не мелкая. Можно как следует ухватить за жопу… но иногда мне хочется молодой непресыщенной пиздёнки.
Сейчас молодые пиздёнки в поле зрения особо не маячат. Женщины без шляп, с голыми розовыми ляжками в сломанных туфлях. Красные, плоские, недоверчивые морды. Но под интенсивным солнцем и в мерцании серебристой воды всё тихо. Изредка кто-то с одной баржи орёт кому-то на другой. Вода легонько плещется о дно, и, пузырясь, движется назад. Небольшой красно-чёрный буксир с гигантской белой буквой C, нарисованной на трубе, шумно ухает, отходит от борта одной из барж и устремляется в начало каравана. Баржи выстроены в семь рядов по четыре в каждой. У некоторых на крыше каюты разбит садик, что-то типа наружного ящика для растений, где можно сидеть в окружении герани. Вместе с последним чеком нам спустили циркуляр: «Капитанам, желающим приобрести герань, просьба немедленно уведомить кассира Нью-йоркского Офиса».
Зеленые деревья, древесное благоухание гуляющего по воде ветра, не попадало в ноздри, которые сжимались в попытке найти подходящее для описания слово. Волосы на теле земли; чтоб вырваться за пределы абстракции следовало тонуть или парить в небе; а это не имело названия, я сижу на летнем ветру, утопая, взлетая. Но потом сознание вернулось ко мне, будто серп, готовый к жатве, чтобы проредить мои заросли из чувственных впечатлений. Из вегетативных тропизмов, предков моих, уход возможен лишь посредством символов, этих строительных лесов воображения… Унизительно для мужчины быть деревом, которое знает в сексуальном смысле лишь другие деревья, а не женщину.