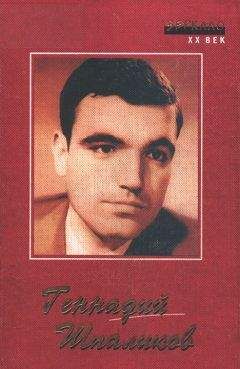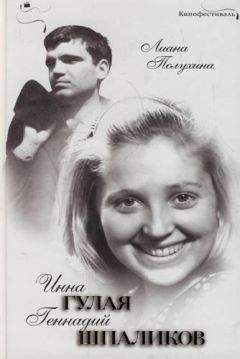— А чего хочешь, — объяснила Катя. — И никаких монахов.
— Катя, не мешай, ради бога, — строго сказала Света. — Ну-ну, Гоша.
— Вопрос в том, как до них добраться…
— До кого? — вклинилась Катя.
— До монахов, — объяснил Струйских. — Больному Гималаи не одолеть, а монахи вниз спускаются редко…
— А вы как же? — опять спросила Катя. — Через Гималаи?
— Да, — сказал Струйских. — На вертолете.
— А вертолет откуда?
— Падишах дал.
— А падишах откуда?
— Мы с ним в теннис играем…
— Ясненько, — сказала Катя.
Между тем у бабкиного кресла тоже текла беседа. Светская. Бабка давала объяснения к фотографиям, которых развешано было видимо-невидимо — за креслами, от пола до потолка.
— …Это я в «Весне священной»…
Фотографии рассматривал Онаний Ильич с супругой. И Серафим Лампадов был рядом. На всякий случай.
— А рядом, вот, полюбуйтесь, Фокин… Танцовщик был не без полета, но человек тяжелый… Немирович, пожалуйста… Одевался всегда прекрасно… Он ничего был… Славный. Нет-нет, это не я. Но мы похожи были. Нас частенько путали. Это актриса Корша Катенька Полевицкая читает стихи Блока на смерть Веры Федоровны Комиссаржевской… А это, — это позднее уже… Это Митя… Димитрий Петрович… Вот под этой кадочкой… — бабка показала кадку под окном, — перед войной…
Милый какой! — сказала жена Онания Ильича.
— Да, милый, — сказала бабка и тяжело вздохнула.
— Головку чуть повыше!
Митя стоял у беленой стенки с «Синдромом» в руках.
— Склонитесь к агрегату… — попросили.
— Так хорошо? — спросил Митя.
— Хорошо.
Потом вспыхнул свет — на мгновение — яркий, и изображение застыло. Митя и впрямь был мил.
Бабка продолжала давать объяснения. Катя металась сзади.
— Это — узнали, конечно, — Федор Иванович… Ну, конечно же… Шаляпин…
Неужели Шаляпин? — спросила жена Онания Ильича. — Вы его близко знали?
— Довольно, — уклончиво сказала бабка. — Я его отлично помню: блондин, хорошего роста…
Большой талант, — согласился Онаний Ильич.
— Сгубил себя, — огорчилась его жена.
— В изгнании, — пояснил Онаний Ильич.
— Даже птице не годится жить без родины своей, — встряла Катя. Никто ей не ответил.
Митя стоял в автомате. Бросил монетку. Номер набрал.
— Катя! — сказал он в трубку. — Слава богу! Почему слава богу? Ни почему. Как мать? Печально…
Катя шептала в телефон:
— Это, отец, цирк какой-то, все сидят, тебя ждут…
— Кто сидит? — поинтересовался Митя.
— Твои из лаборатории. Профессор с женой…
— Ну?
— Васенька, Кирилл Сергеевич с женой, Лягин…
— Выпивают?
— Нет, тебя ждут…
— Лампадов там?
— Конечно.
— Бабка про Шаляпина рассказала?
— Еще как!
— Гоша про Хусейна?
— Какого?
— Короля. Второго. Хусейна второго.
— Нет, он сегодня про монахов.
— Молодец. Не штампуется.
— Ты едешь или не едешь?
— Лечу.
Митя вышел из будки. Вечерело. «Пора бы пить яванский ром, но силы все забрал „Синдром“», — опять подумал он вяло. Покрутил пакетом с шариками. И пошел.
— Эта пластинка… — опять сказали, — познакомит вас с тем, что такое стереофония…
Оркестр грянул. Все сидели тихо, умаявшись. Никто не разговаривал.
Катя услышала звонок. И собака залаяла. Никто внимания уже не обратил. Катя открыла дверь. Митя стоял на лестнице. Музыка гремела. Митя глядел невесело, устало.
Онаний Ильич качал в воздухе стопкой:
— …Хочу вспомнить сегодня одну старую притчу. Некий прохожий увидел в жаркий день усталых людей. Они таскали камни, изнемогая под тяжестью груза. И лишь один из них трудился радостно. «Что ты делаешь?» — спросил его прохожий. — «Я строю Шартрский собор», — сказал ему гордо человек, отирая нот. — «Но ты таскаешь камни?..» — недоумевал прохожий. — «Да, — ответил труженик, — но камни эти ложатся в стены собора, а значит, я строитель его». Митя свой камень в собор науки уже заложил. Камень — это я фигурально. Но «шарик Арсентьева» бьется во множестве гидроприборов. Я ценю в тебе, Митя, человека на своем месте.
— Обыкновенного человека — на своем обыкновенном месте… — поддержал Митя.
— Ну да, — сказал Онаний Ильич.
— Спасибо, — сказал Митя. — Очень мило. И про собор. Одну минуточку.
Митя потянулся к полке и достал книгу.
— Что это? — спросил профессор.
— Это, Онаний Ильич, «Стоматологические отклонения у детей дошкольного возраста». Шестое издание. Исправленное и дополненное.
— Понимаю, — сказал Онаний Ильич, ничего не понимая.
— А это, Онаний Ильич, — я. — И Митя показал профессору фотографию ребеночка, которому кто-то пальцем оттягивает щеку, а за щекой у него — два зуба. — Глава называется «Занимательные отклонения». У меня в этом возрасте совершенно не ко времени прорезались два коренных зуба. И не на том месте. Меня тогда снимали. Зубы потом выпали, а фотокарточка осталась…
— Митя, зачем это? — спросила Света устало.
— Занятно, — сказал профессор.
— Да, — подтвердил Митя. — Я был незаурядным ребенком. В этой книге меня называют феноменом. Мне иногда кажется, что шарик Арсентьева всего лишь малое следствие стоматологического казуса…
— Ну-ка, покажи… — заинтересовался Васенька, и Митя показал ему книгу.
— Это ты? — удивился Васенька.
— Я, — подтвердил Митя.
— Не ври, — сказал Васенька грубо.
— Вот те крест, — сказал Митя и перекрестился.
— Не богохульствуй, Димитрий, — сказала бабка и тоже подняла рюмку, — но это в самом деле он.
— Я, — подтвердил Митя мирно.
— Ноги балерины — ее карьера, — ни к селу ни к городу сказала бабка. — моя судьба…
— Бабушка, — протянула укоризненно Катя. — В такой день…
— В такой день говорить можно все, — сказал Митя.
— Что делать, Митя? — сказала бабка совсем туманно. — Да и ты не виноват. Такова судьба. Смирись, гордый человек, сказала я себе. А в тебе полюбила свою боль, утрату. И горбатые дети — для матери все дети. А ты, Митя, мне ближе сына…
Бабка умолкла так же внезапно, как начала. Никто ничего не понял.
— Будь здоров, Митя, — сказал находчивый Онаний Ильич, и опять все оживились.
Катя играла на пианино. Серафим Лампадов пел. Пел прочувствованно и с душой.
Слушали его внимательно. Все-таки трогательный старик. Похлопали.
— А теперь я, — сказал вдруг Митя.
— Ну почему же — ты? — спросила Лера.
— Ни почему, просто петь охота, — Митя протиснулся к пианино и встал на место Лампадова. — Катя, давай! — сказал он дочке.
— Может, не надо? — слабо спросила Катя.
— Надо, — сказал Митя, и Катя проиграла вступление.
Митя начал. Песня была довольно старая, популярная когда-то:
Или ты забыла
Кресло бельэтажа?
Оперу «Русалка»?
Пьесу «Ревизор»?
Дальше шло про «тихие аллеи сада „Эрмитажа“» и про «серьезный, тихий разговор». Митя пел, вошел кто-то и, не мешая певцу, тихо встал в дверях. Митя споткнулся на полуслове.
— Это кто? — спросил он в полумрак.
— Это я, — ответили оттуда, — Леша.
— Какой Леша? — спросил Митя. — Зажгите свет.
Свет зажгли. На пороге стоял плотный человек средних лет с мужественным лицом. Он был одет в кожаную куртку, одна рука — забинтована и торчала отдельно от человека, вроде наперевес. В другой был большой пакет странной формы, завернутый в оберточную бумагу и перевязанный бечевочкой.
— Леша? — удивленно спросил Митя и вдруг узнал.
Сидели на кухне друг против друга.
— Ах, сколько лет, сколько зим! — все повторял Митя. — После школы, постой, — это сорок третий… ай-ай-ай… А как же ты вспомнил?
— Да я книжку нашел. Старую. Там все дни рождения помечены. И ты. Крестиком…
— Крестиком?
— Крестиком.
— Жалко.
— Что жалко?
— Что крестиком. А что у тебя с рукой?
— Да так. По работе, — уклончиво сказал Леша.
— А где работаешь?
— Там же…
— Где — там?.. — спросил Митя осторожно.
— Миры — антимиры… Эффекты, в общем.
— Эффекты?
— Ну да. Мирные. Надмирные. Чертовщина.
— В каком смысле?
— В прямом. В основном в театрах, — охотно объяснил Леша. — Пиротехника. Трюки.
— Смурная работа, — посочувствовал Леша.
— Денежная?
— По-разному, — сказал Леша. — Сдельная. Тяжело.
В комнате опять притихли.
— А он неплохо пел… — сказал Онаний Ильич.
— А что за песня — никто не знает? — спросил Васенька.
— Никто, — сказала бабка.