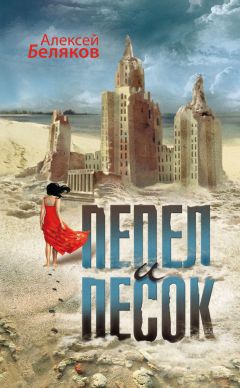— Неужели ваша бабушка не может найти в Таганроге хорошего хирурга?
— Бабушка?
— Она же большой человек!
— С чего вы взяли?
— Она так себя держит. Коньяк дорогущий доктору дарила. Разве она не работала в горкоме?
— Каком горкоме?
— Партии.
— Ты что? Она всю жизнь дальше нашего двора не выходила.
— Да? — Требьенов роняет серую папку.
— Конечно.
— Как я ошибался. — Требьенов поднимает папку, дует на нее. — Жаль.
— Ты поэтому мне судно приносил? Думал, у меня бабушка человек со связями?
— Честно говоря, да.
Сверху доносится хохот нимф. На голову Требьенова сыпется штукатурка.
— В Москву, срочно в Москву… — бормочет он, словно безумный.
Катуар отнимает у меня свои запястья, взмахивает ладонями, сердитыми крыльями:
— Ты не сможешь, Саша. Какой Таганрог? Ты и выговор южный забыл. Где твое «Г» фрикативное?
— Откопаю в песочнице. Полетели отсюда. Прямо сейчас. Будем, как Александр Первый и Елизавета Алексеевна, тихие и нежные. Как тогда, осенью 1825 года, на пороге вечности. Быстрее! Я не дам тебе даже часа.
— А абажур?
— Что?
— Я не сделала абажур для твоей комнаты.
— В Таганроге целых две комнаты, будет где развернуться.
— Есть перспектива! Но мне все-таки надо посушить волосы.
— На лету высохнут. Ты согласна?
— И я еще ни разу не искупалась.
— Это серьезный аргумент. Иди на пляж. Я пока придумаю, что наврать Мельхиоровичу и Булатовичу.
— Мне кажется, это уже ни к чему, когда ты задумал бегство. А ты не хочешь со мной искупаться? Да, прости, я глупость сказала. Нет, я не пойду никуда без тебя. А в этой гостинице есть фен?
Верховный Драматург, будь милосерден, оборви здесь сюжет, начертай в небесах заветное Ende! Все уходит в песок. Сочи тонет в аду. Дальше пусть тишина. Никакого «гур-гур».
Стук в дверь.
Я освобождаю запястья Катуар. Но она продолжает держать руки так, будто я магически загипсовал их. Потом я закрываю глаза.
ЗТМ.
— Ты будешь открывать? — шепчет Катуар.
— Глаза?
— Дверь.
— Не буду. Зачем? Нас уже нет.
— Это некрасиво. Вдруг там нужна помощь?
— Кому?
— Например, Шах-оглы Магомедова хочет похмелиться. Медные трубы горят.
Сквозь утлую дверь доносится пугающий голос:
— Марк, вы здесь? Я принесла ваши бэджи. ВИП! Сегодня церемония открытия.
Катуар хихикает мне в волосы:
— А для них ты по-прежнему Марк.
— Черт с ними. Все утопить.
— Я открою. Эта тетка не виновата в том, что мы собрались в Таганрог. У нее свои цели.
— Ты голая.
— Отдай одеяло!
После нескольких секунд глухого диалога у дверей (ятак и стою лицом к окну), Катуар восклицает:
— И там будет настоящая красная дорожка?
— Да, девушка. — отвечают ей строго. — Вы точно Марку передадите?
— Конечно. И ему, и Бенки, и Лягарпу, и Брунгильде.
— Кому?
— Всем! Спасибо вам. Всего доброго. Прощайте.
Этих секунд хватило, чтобы сбить наш благословенный ритм.
Теперь два человека в темных очках уже садятся в черный автомобиль в Сочинском аэропорту. Они не пили в самолете ничего, кроме томатного сока. Их никто не встречал. И они уже едут.
— А если он будет пьяный? — спрашивает один другого.
— Не будет. Я уже все узнал. — отвечает один другому.
Мы с Катуар спускаемся в лифте. Я держу в руках чемодан с нерожденными платьями и испуганным Лягарпом во чреве.
— Нога ноет.
— Почему? — Катуар гладит меня по плечику.
— К перемене мест.
На площадке у гостиницы «Перл» останавливается черный автомобиль. Марк, или как тебя там теперь, — берегись автомобиля!
Двери лифта печально расходятся. Перед нами с Катуар холл гостиницы с образцовым советским уютом и табличкой на ножке — «Ресепшн».
Из автомобиля выходят два человека в темных очках. В нарушенье привычной гармонии — оба через одну дверь. — Простите, заклинило! — кричит им водитель.
Катуар останавливается, спрашивает:
— А мы не скажем на ресепшене?
— Нет, мы не можем задерживаться.
— Тебе не тяжело?
— Чемодан накачали веселящим газом. Вперед!
Двое в темных очках входят в гостиницу через стеклянные двери, которые протирает пышной тряпкой женщина с азиатской порывистостью.
— Давай сразу к нему в номер? — спрашивает один другого.
— А я поищу его на пляже. — отвечает один другому.
— Нет. Я уверен, что он в номере. Какой пляж этому лягушонку?
И они движутся по холлу. Их окликает парка с ресепшна:
— А вы куда, господа?
Мы с Катуар минуем их (расстояние близкое, но они нас не замечают), приближаемся к стеклянным дверям. Я произношу заклинание:
— Сразу у входа садимся в такси, и будто нас тут не было…
Женщина с тряпкой вздыхает, глядя на нас.
Двое в темных очках уже что-то ответили парке. Та левой рукой указует:
— Так вот он, с чемоданом!
Двое оборачиваются.
Катуар вылетает на свободу, поднимает голову, смотрит на небо. Я с чемоданом на границе — между проклятым Марком и Сашей, который уже ступает на спасительную дорожку, усыпанную белой акацией. Правая нога уже там — левая, подлая, еще здесь. — Марк! Вы куда?
— И тогда Александр сказал: «Солдату через двадцать пять лет службы и то дают отставку. Мы поселимся в Ореанде, и ты, Волконский, будешь у меня библиотекарем». Император действительно купил имение в Ореанде, когда выезжал из Таганрога в Крым, а вернувшись, показывал план имения Елизавете Алексеевне, говорил, что там они обретут покой.
Бух безжалостно стряхивает листья и садится на осеннюю скамейку. Он в тренировочных штанах и куртке на молнии, только что играл в баскетбол, пахнет потом и старой резиной.
ТИТР: ЛУЖНИКИ. ГЕРОИ НА ПЯТОМ КУРСЕ ИСТФАКА МГУ.
— Так он действительно хотел сбежать, Бух? — Я в нетерпении устраиваюсь рядом и сажусь в маленькую лужицу. Холодное пятно в форме Италии растекается под штанишками горе-гнома.
Что делать подмоченному Марку? Будет сидеть, я сказал! Разогревать остатки ночного дождя. Бух прислушивается к ударам по мячу и отвечает тихо, как на похоронах:
— Очень много свидетельств за это. Его преемник, брат Николай, старательно уничтожал архив Александра, но мемуары всех современников уничтожить сложно. Завещание Александр составил задолго до отъезда в Таганрог, оно тайно хранилось в Успенском соборе Кремля. И завещание он писал, будучи совершенно здоровым, явно не собираясь умирать. При этом в его походных бумагах был найден церемониал погребения бабки, Екатерины Великой. Зачем-то он взял его с собой…
— Собирался инсценировать смерть?
— Я не могу утверждать этого, как не могу утверждать обратного. Нет никаких прямых свидетельств, хотя, конечно, для императора пойти на такой трюк в духе французской комедии было малоприемлемо. И надо помнить, что здоровье Елизаветы Алексеевны было совсем плохо, как раз ее смерть была ожидаемой, так что скорей Александр уже задумывался о том, как хоронить несчастную Lise — с почестями, которые хоть как-то могли искупить его грехи перед ней. Но мотив бегства от престола в разговорах с близкими отчетливо звучит последние годы его жизни. Еще в 1819 году он сказал брату Константину, что очень устал править. Особенно явственно им овладела хандра после страшного петербургского наводнения 1824 года. Ну, «Медный всадник» ты хотя бы читал, надеюсь… А когда открылся грандиозный заговор Южного и Северного обществ, в котором участвовал цвет молодого дворянства, Александр совершенно определенно почувствовал страх и смертельную опасность, которые перешли в полную политическую апатию. Надо было принимать жесткие меры — Александр на это произнес знаменитое: «Не мне подобает карать…» — Бух поднимается и уже громко заключает свою надгробную речь: — Слушай, что ты пристал? Сбежал — не сбежал! Вечером все расскажу. Я хочу еще поиграть.
— Вечером не расскажешь. Я переезжаю к Хташе.
— Уже сегодня? Мне говорил Бурново, но я думал, что после свадьбы… Жалко, я привык к твоему хаосу и сыру. Но с другой стороны — никто не будет мешать мне диплом писать.
— Который хотел писать я?
— Перестань. Ты не написал бы о Федоре Кузьмиче. Сочинил бы за одну ночь сказку о царе и… Извини, я не то хотел сказать. Не обижайся. Хочешь, я отдам тебе «Брунгильду»? Ты уже хорошо печатаешь.
— А ты как без нее?
— Я давно работаю на компьютере, ты не заметил?
— Нет.
— Бурново мне привез из Германии ноутбук. А вот и Хташа! — Бух улыбается и встает, возносясь кудрями выше Александрийского столпа.
Хташа в распахнутом сером плаще, поднимая дыханьем умершие листья, приближается к нашей мокрой скамейке. Пощады не будет.