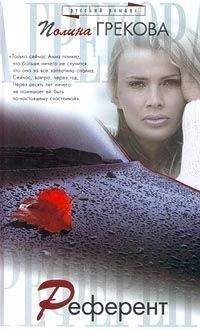Подельник же мой, Толя Собинов, работал как раз на этой территории. Помчали за ним. Через несколько минут, влетев на крышу вагона, Толя, еле переводя дух, махал руками и, прикладывая их рупором ко рту, выкрикивал Маше инструкции:
— Долго здесь не стой!.. Александр работает далеко отсюда, позвать его не удастся! Сколько суток дали?..
— Пока не знаю, с начальством не встречалась. Я тут кое-что хотела ему передать...
— Тихо!.. Не говори ни о чем! Не вздумай деньги проносить, вышмонают! Если есть у кого-то из местных оставить — оставь там, потом человека пришлем... А сейчас уходи, пока не засекли!
Гремели краны, пилорамы стоящих поодаль цехов, цепи, машины. Над всем висел гвалт и грохот. Поэтому кричали изо всех сил, пытаясь за несколько минут сказать друг другу, как можно больше. Но половина слов гасла и тонула в окружающих звуках, а риск быть уличенными в переговорах с заключенными возрастал с каждой минутой. Можно было остаться без свидания.
— Уходи, уходи, а то сейчас менты прибегут! — крикнул напоследок Толя и спрыгнул с вагона.
Его консультации оказались очень своевременными и полезными. Именно деньги на свидание Маша и собиралась пронести. Дружище юности Толя Щуров, узнав, что она поедет ко мне, принес двести рублей с просьбой «подогреть старого друга». В способе нелегальной передачи этой немалой по тем временам суммы их обоюдная фантазия дальше комнатных тапок не пошла.
— Под стельки засунуть и заклеить, — уверенно посоветовал никогда не сидевший Щуров. На том и порешили.
Тщательней всего в вещах приехавших досматривается обувь. Первыми отрываются стельки. Люди, годами работающие на «шмоне», ежедневно перетряхивающие десятки, сотни килограммов тряпья и продуктов, чуют деньги, письма, «малявы» даже не на ощупь — по глазам. Это в моих глазах, повидавших немало этапов, пересылок, шмонов и облав, ничего не углядеть. Но в ее, наивных и печальных...
Инструкции Толи Собинова Машенька выполнила в точности. И поэтому, когда на «шмоне» с треском разодрали тапки, она имела полное основание смотреть на шмонающих победоносно. А я получил эти 200 рэ — через несколько дней ко мне на бирже подошел незнакомый вольнонаемный и незаметно сунул в карман телогрейки плотно скрученные бумажки.
— Здесь — пятьдесят. Буду заносить частями. Приду через неделю, — сказал он и, не оборачиваясь, удалился.
Собрав в сумку распечатанные консервные банки, переломанные сигареты, порезанные на части конфеты, колбасу и тапки с отодранными стельками, Маша, наконец, вошла в «Дом свиданий». Именно так он здесь назывался. Однако он не вызывал в лагере такой улыбки, как его вольный и дальний родич. И если там были «нумера», то в этом — «комнаты личного свидания». Кухня, правда, была общей. И все же назвать его «домом» можно было с большой натяжкой.
Это был двухэтажный, вонючий, кишащий крысами барак, с окнами, слепо смотрящими в высоченный забор. Первый этаж занимали кабинеты досмотра, подсобные помещения, охрана и собачья лежанка.
Второй был отведен под комнаты свиданий. Здесь же находился сортир индивидуально-общего пользования, дырки этак на четыре, оповещающий о своем существовании не столько указательными знаками, сколько содержимым ямы. Поэтому слоняющихся по коридору не было. Все сидели по норам, плотно захлопнув двери.
Заведение находилось в непосредственном ведении подполковника Дюжева. На бесчисленные жалобы по поводу одолевающих крыс он неизменно, гадливо хихикая, отвечал:
— Ну что же я сделаю? Они тоже здесь, как и ваши родственники, в тюрьме сидят, хе-хе.
На вопросы о том, как быть, он так же невозмутимо советовал:
— За решетку не садиться. И еды возить поменьше, хе-хе.
Крыс бы давно переловили сами родственники и зэки,
да мышеловки и крысоловки проносить запрещали. А руками и ногами получалось неэффективно. Поэтому нет-нет да и раздавался из-за двери женский визг: «Мама- а... Она здесь сидит!» Или мужской вопль: «А-а-а, ебаные крысы!.. Козлячьи ментовские рожи!..»
А дальше стук, топот, лязг кочерги или грохот запущенной вдогонку казенной кастрюли.
Я вошел в комнату, отворив дверь без стука. Маша сидела на кровати и вытаскивала из сумки содержимое, укладывая рядом с собой. На мне шапка-ушанка на искусственном меху, как из далекого детства. Тапки-оборванцы, черный мелюстиновый костюм... В общем, моя новая одежда.
Она бросила что-то из тряпья на пол, опрокинула сумку, вспорхнула и повисла у меня на шее. Повисла и тихо заплакала. Я так и стоял: в телогрейке, в сапогах, с висящей ею. Потом поставил на пол, и мы еще какой-то миг цепенели, крепко обнявшись. Это была, наверное, самая радостная и самая больная для меня минута за последние два года. Мне было так жаль ее, маленькую, хрупкую и совершенно не изменившуюся. Я вдруг остро ощутил не эту минуту встречи, а миг расставания, который неминуемо настигнет нас через три дня. Три дня... Как это много. Как это много по лагерным меркам. Вечность... И как мало и скоротечно по меркам души. Это нельзя назвать — «свиданием». Это было воссоединением чего-то разорванного в клочья, чего соединить уж никто и не чаял. Снятым на кинопленку полетом хрустальной вазы, упавшей со стола и разлетевшейся от удара вдребезги. А потом прокрученным в замедленном изображении назад. Вот они, осколки, собираются, стягиваются по полу, льнут друг к другу и снова становятся вазой. В нее вперед ногами вползают цветы, верхом на водяных шарах. Отталкиваются от пола и летят вверх на стол. Встают в рост и замирают... Они снова — цветы в вазе. А через три дня пленка рванет вперед. Но это будет через три дня. А сегодня волшебный кинопроектор времени завертелся в обратную сторону, разогнался, визжа всеми шестеренками. И вдруг заклинил и встал как вкопанный. Включился свет, пленка замерла на самом первом кадре.
В каждую из этих трех ночей, просыпаясь и вспоминая все, что рассказывала мне днем она, я выкладывал из месива двух минувших лет дьявольскую мозаику известных нам по-разному одних и тех же событий. Она тихо и счастливо спала, забившись мне под мышку, а я, боясь спугнуть ее сон, прокручивал все с первого дня разлуки. С ней, с Игорем и Наташкой, с матерью, с друзьями, с волей... Как кино — то в красках, то в черно-белом цвете. То истошно кричащее, то оглушительно немое. То забредающее в сон, то выныривающее в явь.
Злое кино показывало, как это было.
Как это было...
Утро 5 октября 1984 года. Не по-осеннему ясно и солнечно. Встаю рано. Еду к школьному другу Сашке Давыдову прямо на его работу — в строительно-монтажную контору. Сашка — начальник отдела. Дома у меня ремонт. Стройматериалов в магазинах нет — только по блату, с заднего крыльца. Но — честные. Если блата нет — со стройки. Но — ворованные. Списанные, как брак, усушенные, утрясенные и оставшиеся от пересортицы.
Кому как удобнее и доступнее. С прилавка — плохие, но дешевые. С заднего хода — хорошие, но дорогие. Со стройки или склада стройуправления — хорошие и дешевые.
Давыдов посоветовал последние.
В 8 утра я у него.
— Что нужно? Есть все.
— Все и нужно.
Посылают за кладовщицей тетей Клавой. Сидим, пьем чай, обсуждаем масштабы ремонта, возможности стройконторы и, конечно, идиотизм мирового социалистического строительства, коммунистической системы, у которой все делается через задний ход. А потому — никаких угрызений совести. Мы — как все.
Входит тетя в мужской телогрейке, в ватных штанах, с огромной связкой ключей на железном кольце. Через кольцо легко пролезет голова.
— Звали, Александр Владимирович?
— Звали. Тут, вот, надо со стройматериалами порешать человеку, — обернувшись на меня, начинает Давыдов.
— Ясно. Чего? Сколько? Как будете вывозить? За какие?
— Потом объясню. Сейчас пойдите выберите.
— Ясно. Жду у себя в складу.
— Минут через пять, — удерживает меня Сашка.
— Деньги кому? Ей?
— Ты что! Начальнику участка.
— Я ж его не знаю.
— Меня знаешь? Чего еще надо? Сначала сходи, выбери. Она все посчитает, скажет. Я кое-что урежу, кое-что спишу. Потом вместе — к нему.
В «складу» было не все. Но было.
Выбранное вместе с тетей Клавой стаскивали в угол. Полчаса пыльных работ — и вопрос с моим ремонтом наполовину решен. Прощаемся до завтра. Завтра — расчет и самовывоз. Иду к своей новой «Волге», две недели назад купленной по счастливому случаю в Ижевске. Дядя моего ижевского знакомого Толи, высокая номенклатурная фигура, отказался от выделенной «Волги» — фургона, потому что хотел обычную. Правда, не совсем, а в пользу племянника. Фургон стоил восемнадцать тысяч рублей. У Толи денег на выкуп не было. На базаре такая тянула на тридцать тысяч, а разницу ему очень хотелось получить. Позвонил он ночью, полагая, что в это время телефоны не прослушиваются. Заблуждался. «Вези меня, извозчик» уже голосил по всей стране, и телефон мой круглые сутки стоял на прослушке. Узнал я об этом несколько позже. Сговорились на двадцати двух. Вылетаем в Ижевск с Сергеем Богдашовым. На торговой базе, на заднем дворе стоит новенькая, небесного цвета красавица. Вертимся вокруг нее втроем, ждем ключи. Открываем — сказка! Сегодняшний 600-й «Мерседес» — ничто по сравнению с «Волгой» — фургоном по тем временам. В частные руки их продавали только особенным людям, по особым распоряжениям. В Свердловске в частных руках их было всего две.