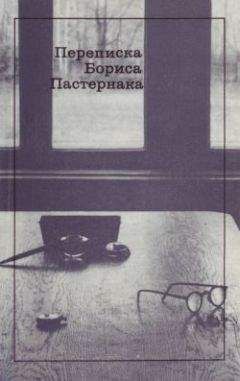Наташа Лапшина, широкая, вальяжная девушка, в таких ситуациях подхихикивала нервно.
Катя Шумская тихо причитала: «Ой, мамочки! О! Мамочка!..»
Как вела себя я — не знаю. Помню, что страх, сосущий, появлялся под ложечкой, и все мышцы напрягались, и крепко-крепко сжимались челюсти. Кто, казалось, совсем не боялся, так это комбат Алексин. Однажды все мы (и он) были в хирургической палатке, готовились к привозу раненых. Начался обстрел. Мы, девчонки, шмыгнули головами под укладку-стол, а зады — наружу выставлены. Наташа подхихикивала, Катя — на одной ноте: «Ой, мамочки!» Алексин некоторое время стоял в тамбуре, а потом (обстрел нарастал) таким же манером устроился среди нас, молчал, а когда девчонки стали действовать на нервы нестерпимо, — грубо, с матом (это так не вязалось с ним!) прошипел: «Прекратите сейчас же! Думаете, мне не страшно?! Страшно! Но надо же держать себя в руках! Ваш скулеж страшнее снарядов!»
С этих пор я больше стала бояться бомбежек, обстрелов. Ну как же? Я считала, что комбат Алексин ничего не боится, а он вот сам сказал, что ему страшно.
А Катя Шумская («Ой, мамочки!») в сорочке родилась. Однажды, когда настал час отдохнуть, комбат Алексин велел ей пойти спать в его дощатый домик, наскоро сколоченный ребятами из транспортного взвода — «в подарок комбату». А между прочим, у Кати с Алексиным был роман. И вот… Катя спит в домике, а недалеко от этого домика выздоравливающая команда узбеков, казахов что-то строила. Началась бомбежка. Все трещит, воет… Вдруг удар, вернее, сначала вой, свист, потом — удар. Где-то на территории лагеря, вернее, на опушке за лагерем, в той стороне, где алексинский домик. Мы все понимающе-тревожно переглянулись, Алексин побледнел и вдруг сорвался с места, без слов… Его долго не было… Потом привел бледную Катю. Реакция у нее на все и на всех была заторможенная. Оказалось, что бомба упала на то место, где узбеки, казахи чего-то строили. От них нашли только части — куски шинели, сапог, ошметки мяса. Их вбило в воронку бомбой. А Катю Алексин нашел под грудой досок развалившегося домика. Стояла одна доска, на ней на гвозде висел Катин противогаз, изрешеченный осколками. Под обломками сидела Катя, живая, невредимая, притрушенная испугом, грохотом, страхом. Удивительное везение: столько было осколков, ни один не коснулся ее…
Почему-то ветераны не вспоминают о природе: о птицах, деревьях, цветах. Говорят, что это не сочеталось с войной. Война и цветы… Смерть и зеленая полянка… израненное дерево… Верно — не сочетание с войной, а протест этому противоестественному состоянию… Звезды, лес, рассвет, птичья песня, окровавленный снег, полянка с ромашками, и на ней… убиенный воин… Такая боль на сердце! Природа страдает вместе с людьми. Так хотелось посидеть в тихом лесочке на пёнышке, забыть о войне, очистить душу и выплакаться, помечтать о послевоенном времени, о мирной жизни, тишине…
Работа, работа, переходы, переезды, постоянная учеба в периоды затишья: уставы, наставления, изучение винтовки, строевая подготовка и т. д., — это чтобы мы «не размагничивались», не тосковали, «романов не заводили». Но ведь мы были молодые, значит, были улыбки, влюбленности, обретения и утраты, встречи, расставания.
В МСБ мы жили (спали) в палатках, в атаки не ходили, но страшно много работали в разных прифронтовых обстоятельствах. Передовая от нас — от одного до пяти — восьми километров в зависимости от продвижения и количества раненых в нашем лагере.
Где-то вычитала: «Столько было раненых, что казалось — весь свет уже ранен…» Верно!
На одной из ветеранских встреч стали вспоминать наш быт, и кто-то красиво стал говорить о тех минутах на войне, когда соприкасался с природой… то другой со злостью опроверг: не видел, не чувствовал, не соприкасался… я воевал, убивал, стрелял, сам был ранен и «убит»…
Нет, и там, в аду, кто-нибудь умел увидеть ромашку на бруствере, услышать птичью песенку… но таким было еще труднее… очищение души природой на миг, а тут же смерть кругом…
Зачем? Кошмарная реальность… Страшная реальность и в МСБ всю войну: сильные, красивые мужчины, превращенные войной в инвалидов, нередко — в обрубков.
Как я испугалась, впервые увидев в развороченном животе раненого белых юрких жирных червячков — множество… Врач сказал: это как раз и неплохо — они уничтожают заразу…
Какое трудное, до пота, дело — раздеть раненого так, чтобы не усилить его страданий. Приговариваешь: «Не напрягайся, не бойся; я все сделаю сама, осторожненько, я не буду тебя двигать — просто разрежу одежду и чуть приподниму тебя и освобожу, как ребенка из распашонок…»
А он: «Где силенок-то берешь, ангел белый фронтовой?»
А у фронтовых прачек (банно-прачечный отряд) — тоже «своя война». Ох, каторжная!!!
Но женщина и на войне женщина. Стоит поутихнуть большой работе, как появляются букетики цветов на самодельном столике в палатке (если лето), зимой — еловая веточка-лапочка, на слюдяных окошечках — марлевые занавесочки, а то и вышитая думочка, набитая травой, а вышита нитками, окрашенными лекарствами. Наволочечка — из портянки.
Кто-то гимнастерку подгоняет по фигурке, а которая умелица, мастерит из портянки бюстгальтер (дефицит на фронте!): вместо пуговиц шнуровка из бинта. Интересно, на каком фронте какая-то «законодательница мод» придумала делать чулки из солдатских обмоток? Обмотка — двойная. Отрезается нужный кусок, с одного конца наглухо зашивается — чулок готов!
Умирает человек… Страшная работа тела, души. И одиночество… да, да, да! Сколько бы ни колдовало около него людей… со смертью человек один на один… И это мы, девчоночки, должны понять, учесть. А мы такие молоденькие! Как понять? Война научила понимать мысли, муки, чувства умирающих. Надо было стать мудрой и не ханжить, не говорить бесполезных слов вроде: «Ну что ты, миленький! Мы еще с тобой станцуем в День Победы!» Нет, не надо этих слов все понявшему солдату, надо дать ему высказать все прощальные слова, рассказать сестре о близких, кого он должен оставить навсегда… Это в том случае, если медицина бессильна и солдат нутром почувствовал, что умирает. Ведь ты ему сейчас и мать, и сестра, и жена, и дети, и Родина.
Ампутированные конечности в тазу… Конечность (нога, рука) — умерла, ее хозяин — живой. Но долго еще хозяин будет чувствовать отсутствующую конечность, она будет болеть, чесаться… («Сестра, подложи под пятку чего-нибудь мягкое, чтобы боль унять…») А «пятка»-то уже захоронена за лагерем нашим. Хозяин научится обходиться без нее… Часть тела живущего — в земле. Он будет жить, скажем, в Сибири или в Кисловодске, а нога покоится в земле у деревни Воловщина под Ленинградом.
Глядя на похоронку, исходящую от нас, мучительно представлялась мне получившая ее мать, жена, сестра, близкие… Ведь там, в тылу, каждый погибший был для них единственным дорогим, а отсюда их отправляют «коллективно».
После войны нередко слышала от таких осиротевших, будто они чувствовали день гибели, смерти, опасности для их родного человека. И даже то, когда тому было больно или страшно.
В 1943 году у меня стали появляться боли (приступы боли) в области печени, желудка. Боль опоясывала кругом, выступал липкий холодный пот, подташнивало. Хотелось согнуться, присесть… Медики наши дадут восемь — десять капель настойки опия, и минут через десять я в состоянии работать. Что это было? Язва? Печень? (Наверно, язва двенадцатиперстной кишки, ибо в 80-е годы на обследовании обнаружили язву, много рубцов в луковице двенадцатиперстной кишки и сказали, что я «давний язвенник».)
Очень многому научились мы, девчонки, у старших наших товарищей: у Екатерины Васильевны Агаповой — практическим навыкам; она была опытной старшей медицинской (операционной) сестрой; у З. Н. Прокофьевой — доброте, милосердию; у Б. Я. Алексина — выдержке, взаимопомощи.
А хирург Наталия Ивановна Лукьянова (как и Бинемсон) была совершенно не способна обращаться к начальству по уставу. Например, возмущенная тем, что ее «девочек» (операционных сестер ее взвода — Нину и Славу) комбат посылает на КП дивизии обслуживать «какой-то слет…» (конечно, комбату высокое дивизионное начальство приказало прислать двух девушек), Наталия Ивановна, увидев на территории МСБ комбата Павла Григорьевича Сковороду, без «разрешите обратиться», без козырянья восклицает:
— Павел, ты что вытворяешь? Я не позволю девочкам идти в штаб дивизии. Какой там слет? Зачем там быть девчонкам? Чай подавать офицерам? Не думаю, что чай. А водкой обносить могут их денщики! Я тебя спрашиваю — ты жену свою послал бы туда? А Ниночке ты мстишь, я вижу, Павел!
И комбат пасует перед хирургом Лукьяновой, отменяет приказ. Как выходит из положения? Добровольцев ищет в банно-прачечном отряде или из другого взвода кого «выхватит».
Ниночка Полякова — «королева дивизии», в нее все влюблены. Задорная, веселая, интеллигентная — никого из мужчин не жалует. Ее подруга — Слава Галкина — строго наблюдает за Ниночкой, отчитывает, если Нина в разговоре с кем-то дарила свою очаровательную улыбку.