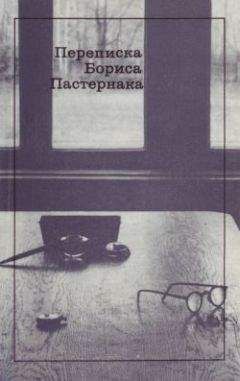Ниночка Полякова — «королева дивизии», в нее все влюблены. Задорная, веселая, интеллигентная — никого из мужчин не жалует. Ее подруга — Слава Галкина — строго наблюдает за Ниночкой, отчитывает, если Нина в разговоре с кем-то дарила свою очаровательную улыбку.
Начальник штаба, «балаболка, балалайка» Скуратов, перед тем как (в 1943 году) появиться в МСБ Нине и Славе (как пополнение), на партийном собрании объявил так: «Товарищи, к нам идет пополнение. Две медсестры. Одна из них — дочь врага народа…»
Ниночкин отец репрессирован в 1937-м, не вернулся, реабилитирован посмертно в 1956 году, но тогда, конечно, в ее деле мог значиться этот факт биографии.
В 80-е годы я спросила Нину, тревожил ли ее на фронте Особый отдел дивизии в связи с этим? Да, не однажды!
Бедная Ниночка! Никогда виду не подавала — всегда веселая и будто беззаботная, но иногда ночью плакала.
Нина — из г. Алексина (под Тулой). Отец работал там хирургом. (Сейчас она — врач, уже на пенсии.)
Еще я спросила Ниночку, почему она отказала Яше Лихтеру, Серго Григорьянцу, Ивану Веленцу — влюбленным в нее красиво, чисто, пылко… Все это знали и очень сочувствовали им, а не Нине. Они вздыхали, страдали, у многих девчонок искали помощи, чтобы мы вроде бы повлияли на Нину в их пользу…
Ниночка мне ответила:
— Ах-ах! Бедненькие влюбленные! Чего же ни один из них не решился жениться на мне?! Как только я сообщала (каждому из них), что мой отец репрессирован, они переставали уговаривать меня выйти за них замуж после войны, хотя влюбленность оставалась. Они понимали, что я своей биографией перечеркну их путь (намеченный до войны): Яша и Серго, если благополучно вернутся с войны, знали, что пойдут в науку (физику), а Веленец собирался стать кадровым военным (академия и прочее…). И я это понимала и предостерегала их. Я их не осуждаю, понимаю, но… все же, все же, все же… Значит, именно влюбленность была, а не любовь, которая заставляет себя забыть…
Яков Михайлович Лихтер — физик, профессор, доктор, известный за рубежом; Иван Стефанович Веленец преподает в военной академии, кадровый военный. Они до сих пор с придыханием спрашивают, как Ниночка живет, и просят сердечные приветы передать, не скрывают, что нежность, любовь их к ней жива до сих пор.
А Сергей Павлович Григорьянц умер в 1988 году. После института Серго работал в Челябинске на атомной станции, а там были аварии. Когда вдова сообщила мне об этом, то просила найти «девушку по имени Нина, которая была в вашей дивизии и которую Сережа любил всю жизнь… Он мне часто о ней говорил и последний раз незадолго до смерти вспоминал. И он сам, и никто из окружающих не мог бы подумать, что его конец близок, он умер с ходу. Его работа была связана с радиоактивным производством… Пришел с работы, за ужином строил планы, служебные и личные, не на один день вперед, а на год… но ночью умер».
Ниночке я позвонила, она приехала (живет в Калинине). От ветеранов дивизии были только мы, но вообще очень много народу провожали Серго, и такие проникновенные прощальные слова были… День был холодный (середина октября), порывистый ветер, сыро. Ниночка, посиневшая, стояла у гроба с печальной серьезностью.
Погожий осенний день 1943 года (месяц не помню) — встреча с Сергеем Михайловичем Морозовым, последняя встреча… Кто-то вызвал меня из операционной (в те дни не было раненых) и сказал, что меня просят выйти на «залагерную» дорогу — настил. Кто? Сообщивший или не знал кто, или умолчал? Умолчал, чтобы я не испугалась…
На дороге стоял С. М. Морозов. Моя первая мысль — о боже, неужели опять «пойдет в наступление», — и я, заранее съежившаяся, остановилась. Он медленно направился ко мне, с удивительно доброй и грустной улыбкой. Вспоминая потом нашу встречу, я поняла, что мы оба боялись друг друга: я — его притязаний, он — моей этой боязни. И оба из-за своей боязни не приблизились на расстояние, позволяющее пожать друг другу руку. За все время разговора (собственно, говорил он) мы не двигались с места, стояли в напряжении, как две стороны, которым надо провести дипломатические переговоры… Поздоровались, произнеся одинаковое слово «здравствуйте»: он — с доброй, мягкой улыбкой, я, наверно, — с настороженностью.
— Сегодня меня не бойтесь! Я пришел, чтобы еще раз вас увидеть и попрощаться, вернее, получить ваше прощение, — грустно говорил С. М. Я почувствовала отчетливо, что его намерения действительно только такие. — Я знаю о вас все за то время, что мы не виделись. Я встречал ваше имя в дивизионной газете — храню вырезки… Я служил в соседней дивизии — этой же Восьмой армии.
Я молчала, придавленная его смирением.
— Я был ранен. Ампутирована нога (повыше щиколотки). В госпитале, где я лежал, познакомился с медсестричкой, очень похожей на вас, и именно поэтому… ЖЕНИЛСЯ на ней. Когда сделали протез, стал хлопотать о возвращении на фронт. Нелегко, но добился. И вот еду в свою часть, по пути решил завернуть сюда — поглядеть на вас. Теперь это будет понятнее вам, тоже узнавшей, что такое любовь… Я и это о вас знаю… У меня здесь оставался друг, и он все сообщал мне о вас… «Мой агент» незримо наблюдал за вами… а потому никаких неприятностей от этого моего поступка не было… А за все предыдущее мое поведение и причиненные вам мною огорчения прошу простить… — И С. М. низко поклонился, а когда выпрямился, его глаза влажно блестели…
Я сделала было шаг к нему — мне захотелось погладить его, поцеловать в щеку, встать на колени перед ним, целовать руки его — благодарить за спасенную мою жизнь, просить прощения за невольно причиненную ему боль… но сдвинуться с места я не могла. Я продолжала бояться, видела, что чувство его ко мне еще не угасло, страшилась своим душевным порывом дать ему надежду… и тогда я тоже низко ему поклонилась и сказала:
— Я никогда не видела своего отца — он умер за полгода до моего рождения… и фотографий не осталось. Я в своем воображении создавала его характер, его поступки и доброе, отцовское отношение ко мне… И когда встретились вы на моем пути и проявили ко мне такую сверхзаботу, спасли от голодной смерти, — я испытывала дочернюю благодарность…
(Наверно, в других словах, не таких гладких, выражались наши чувства и мысли, но смысл был именно таким…)
А война продолжалась… Мы все еще под Ленинградом, хотя блокада прорвана, готовимся к боям по снятию блокады. Коллектив МСБ — дружный, несет большую нагрузку во время боевых операций полков или всей дивизии. Скарб (хозяйство МСБ) перевозился на машинах (был свой транспортный взвод), врачи почти всегда — на машинах, а мы, «шульцы», — чаще пешком… По дорогам, на обочине, искореженная техника… Зимой лучше шагать пешком — на ходу согреваешься. А я к тому же меньше муки испытываю от аллергии на холод, чем во время езды на открытой машине. Как-то неожиданно появилась у меня эта напасть: на улице, на ветру, в холод, кожа на лице, шее, ушах, руках взбугряется красными зудящими пятнами (зуд — до слез!), и если долго находишься в условиях, вызывающих это явление, то пятна (выпуклые) сливаются, и чувствуешь сплошной жар, зуд. И прямо с ходу — за работу. В палатке тепло. Пятна и зуд исчезают…
При больших потоках раненых врачи доверяли медицинским сестрам мелкие операции: извлечение осколков из мягких тканей, когда нет переломов и сосуды большие не повреждены, новокаиновые блокады при пневмотораксах, ампутация. А когда хирургу надо было срочно заняться другим тяжело раненным, он просил наложить верхние швы после лапоротомии, говоря: «Сестра, закончите операцию!»
Бывало, на третьи-четвертые сутки работы мы уже начинали спотыкаться и дремать. И если заходил в палату комбат, мы ждали, что он скажет: «Раненые перестали прибывать». Но часто он говорил: «Старший лейтенант Агапова! Работать придется еще не менее стольких-то часов… Надо взбодриться. Разрешаю дать тем, кто хочет, — пятьдесят грамм разведенного спирту для бодрости… Других средств у меня нет». Я отказывалась. И даже праздничные «наркомовские сто грамм» отдавала мужчинам.
Вышел приказ ставить медсестер и санитарок часовыми по охране лагеря МСБ — мужчин в МСБ не хватало, да и «для укрепления нервной системы девчонок». Правда, вскоре отменили, создав взвод легко раненных и выздоравливающих, которые долечивались у нас.
…Мой выход на пост: осень, дождь многодневный, темень, время для меня выпало предночное… Стою, всматриваюсь в темень… лес скрипит, стонет, мне все время чудятся шаги. Территория лагеря большая, мое место недалеко от дороги в МСБ (по которой обычно доставляли раненых). В последние дни — затишье. Начальник штаба Скуратов и разводящий Никитин (шофер) решили проверить «девчачьи» посты, узнать, как мы знаем уставные правила. Но скорее это была проверка «шуточная», «для интересу».
…Вроде слышу действительные шаги, потрескивание под чьими-то ногами сучков. И вроде шепот… шаги ближе. По спине бежит страх, сковывает. Кричу: «Стой! Кто идет?!» Молчание, а потом — опять два-три шага. «Стой! Стрелять буду!» — и щелкаю затвором. Ни звука. И вдруг — шаги совсем рядом. И я выстрелила в воздух… Шум, треск за деревом, к которому я стояла прижавшись спиной, и кто-то схватил мою винтовку, и тут же голос (по-русски): «Эх, горе-часовой!.. Вот возьму и поцелую часового… Хотя и не за что… что ж так близко подпустила врага? Хотя молодец — выстрелила, сигнал подала… сейчас сбегутся на твой выстрел…» А у меня с перепугу дрожали руки.