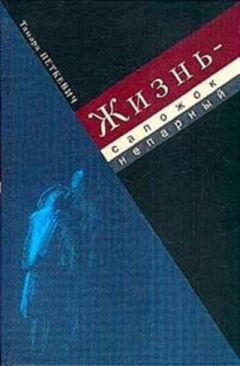Дежурный медленно посветлел.
— О, — сказал он, взвесив все «за» и «против». — Это мысль! Сейчас я с их дежурным соединюсь, потолкуем, — он потянулся к телефонной трубке, — думаю, договоримся! А вы, гражданочка, ничего, — обернулся он к старухе, — вы кушайте себе! Сейчас мы вас устроим.
Вслед за дежурным переключили внимание на старуху и другие милиционеры. Тот, что постарше, привстав на носки, заглянул в ее чемоданчик. Увидел там порожнюю бутылку и стакан, но ничего не сказал, отошел в сторону. Старуха поперхнулась, но быстро оправилась — стоило только пожилому милиционеру отойти. Глаз у него, наверное, был тяжелый. Есть такие люди: от одного взгляда молоко прокисает. Старуха жевала мягкий и вкусный бублик, запивая его очень сладким чаем, и все косилась на костяшки домино. У них была затейливая обратная сторона — как на вышитом полотенце, только черная.
Дежурный старший лейтенант положил трубку на рычаги и потер руки, как с морозца. Все поняли: пор-рядок, договорился, — и весело переглянулись.
Упругий ветер забил старухе рот и уши.
— Ну вот, бабка, — наклонясь к ней, прокричал милиционер, который сидел на высоком седле, сзади. — Домой вернешься, хвалиться будешь: на мотоцикле, мол, меня милиция московская катала!
— С ветерком! — подхватил, оглядываясь, другой, в крагах, водитель.
Старуха ничего толком не расслышала, но кивнула — на всякий случай. Глаза она держала плотно закрытыми. Сердце замирало от страха и быстрой езды.
Ехали недолго и привезли ее на другой вокзал — не на тот, на который она приехала днем, в жару, — но этого она, ошеломленная лихой милицейской ездой, не заметила. Милиционеры, отстегнув брезентовую полость коляски, высадили ее на твердую землю, на асфальт, сунули в руки чемоданчик и ввели ее в ярко освещенный, гудящий, словно улей, зал, полный запахов человеческих тел и — почему-то — сырых овчин.
Народу в зале было видимо-невидимо, и растерянная старуха даже попятилась. Но милиционеры быстренько огляделись и повлекли ее к длинному ряду скамей, на которых сидел, вел длинные разговоры, закусывал с газеток и, разувшись, спал усталый транзитный люд.
Милиционер, примерившись и выбрав, потряс одного из спящих за плечо:
— Ну-ка, подвинься!
Спавший проснулся. Сначала дрогнули его веки, потом сам он проворно поджал под себя ноги в синих заскорузлых носках и сел, протирая глаза кулаками.
— Бабушку вот с тобой рядом посадим, — с грубоватым добродушием сообщил ему милиционер. — А ты гляди тут, брат, не обидь старушку!
— Очень мило! — Разбуженный человек прямо через глубоко надвинутую кепку поскреб в затылке. — Ну, раз так, садись, божий одуванчик.
Старуха робко взглянула на милиционеров и, поскольку те не возражали, села. Старший милиционер на всякий случай погрозил человеку в кепке пальцем и повернулся, чтобы уйти, но тут к нему, привычно скользя по разноцветным, потертым плиткам, которыми был выстлан вокзальный пол, подскочил другой милиционер — молоденький, местный.
— Из какого отделения, ребята? — озабоченно хмурясь, осведомился он.
Милиционеры назвали номер.
— Вон старушку к вам привезли, — пояснил тот, который будил человека в кепке. — Пусть отдохнет до утра. В сквере нашли, на Пионерских прудах. Спать на лавочке примостилась. Дело у нее в Москве, а родных — никого. Документы в порядке. У вас тут хоть тепло, крыша над головой, — улыбнулся он.
— Так-так, понятно, — без энтузиазма отозвался вокзальный милиционер. — Дело ясное, что дело темное! У нас тут их и так девать некуда.
— Да наш дежурный с вашим по телефону договорились, — ответили ему. — Пусть пересидит ночь. Спят же тут люди! Тебе что — места жалко?
— Ладно, идите. Пусть сидит, — немного смутясь, разрешил вокзальный милиционер, хотя и по возрасту и по званию был моложе приехавших на мотоцикле: он — рядовой, гладкий погон, они — сержанты, с лычками.
Старший милиционер озабоченно взглянул вверх, на электрическое табло, которое показывало время. На нем как раз, мигнув, сменились две последние цифры.
— Будь здорова, мамаша, — на прощание оглянулся мотоциклист и покачал головой: — Задремала уже! Годы…
Вокзальный милиционер подождал, пока мотоциклисты из чужого отделения покинут зал, и напустил на свое мальчишеское лицо строгость.
— Далеко ли едете? — спросил он, глядя мимо человека в кепке, невольного старухиного соседа. — Билетик ваш попрошу показать…
Человек в кепке тяжко вздохнул, сунул ноги в ботинки — мелькнули синие носки — и с неохотой полез в карман… во второй… в третий… Кепку он насунул на лоб так глубоко, что уши у него топорщились, как у того игрушечного зайца, которого не в магазине купили, не в «Детском мире», а кто-то неумелый пошил сам. Старуха — было дело — шила.
— Билет, — кратко и неумолимо повторил милиционер.
И кепка — а куда денешься? — протянула ему бурый картонный прямоугольничек, завернутый в розовую бумажку. Милиционер, будто целясь, прищурил один глаз и посмотрел билетик на свет. Его интересовали дырочки, пробитые компостером. Потом он, не торопясь и даже будто бы скучая, стащил с человека кепку и молча посозерцал круглую стриженую голову, которую человек, смутясь, прикрыл ладонью.
— Все ясненько, — с металлом в голосе сказал милиционер. — Оттуда. Смотри, голубок, можешь и не доехать!
— Да что вы, гражданин старшина? — Кепка умильно поглядела на узенькие, без лычек, погоны рядового. — Вы не сомневайтесь! Я обязательно доеду!
Милиционер помялся, по неопытности еще не зная, как реагировать на нежданное-негаданное повышение в чине-звании, и перевел взор на дремлющую старуху.
— Здесь спать не разрешается, — сказал он, своим ботинком толкая старухин, и мельком удивился их полному и неожиданному сходству: «Одинаковые! Ты смотри! На одной фабрике шили». — Бабушка! Запрещается здесь спать!
Это было несправедливо, поскольку множество людей вокруг безмятежно спало и никто и не думал будить их. Но, по неизъяснимому свойству души человеческой, молоденький милиционер счел старуху «чужой» и решил именно к ней применить строгие вокзальные правила. А может, виноваты были старухины ботинки. Вроде незаконного ношения формы. Кто знает?
Разбуженная старуха глянула на милиционера непонимающими глазами и покорно встала. Ее качнуло — время летело к полуночи. С трудом сдержавшись, чтоб не захихикать и не навлечь на себя гнев власти, которую здесь представлял милиционер, человек в кепке наклонился и занялся своими шнурками.
— Да нет, вы садитесь, — сказал старухе милиционер. Он даже взмок от усердия. — Это спать у нас запрещается, а сидеть ничего… Сидеть можно!
Старуха села — послушно, словно загипнотизированная, робот из фантастического фильма или оживший манекен, какая-нибудь восковая персона, а милиционер махнул вдруг рукой и ушел к автоматическим камерам хранения, при которых безотлучно находился его товарищ. Там было куда спокойней и гораздо веселей: поговорить можно, поделиться впечатлениями.
— Нет, видела порядки? — быстро сбросив ботинки, спросила кепка. — Порядочки, мать их… Слушай сюда. Я тебе посоветую. Видишь дверь, куда народ прет? Там электрички есть, поезда такие пригородные. Иди в любой вагон, ложись на лавку и — свисти во все дырки до утра. До утра они на месте будут стоять, до объявления. Никто тебя там не потревожит.
Старуха выслушала его, поверила и подчинилась: подняла с полу чемоданчик и пошла к той двери, на которую указала кепка. Дома ночи напролет не спишь, глаза в потолок, чего только не передумаешь, а тут хоть падай…
Кепка, щурясь, поглядела старухе вслед и, как и раньше, закинув руки за голову, блаженно растянулась по всей длине скамейки. Женщина, которая спала, положив голову на пузатый рюкзак со множеством карманов и застежек, подняла вдруг встрепанную голову, скомкала сползший с плеч платочек.
— Иди носки сполосни, фигура, — голосом, хриплым со сна, посоветовала она. — Воняешь тут… И старуху согнал, бесстыдник! Совесть есть?
— Есть! Все есть. Только счастья нету!
Человек в кепке недовольно дрыгнул ногой. Он мог бы, конечно, и по-другому, похлеще ответить этой женщине, которая сует нос не в свои дела, но вовремя заметил рядом с ней огромного человека и раздумал затевать ссору. Гигант спал, по-детски приоткрыв рот и далеко вытянув ноги в светлых пыльных сандалиях. На его выпуклой груди покоился внушительный, перевитый голубыми венами кулак. Полусжатый, он поднимался и опускался вместе с грудью. Кроме вен на нем еще голубела татуировка: корабельный якорь, перевитый цепью, и год рождения — 1929.
«Трафареткой колол, — квалифицированно определил человек в кепке, проникаясь невольным почтением к гиганту. — Ровесник мой, годок. А здоров! Такой звезданет — костей не соберешь. И как он живет с такой, терпит?»