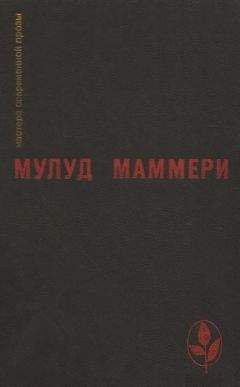— Значит, ты хочешь винтовку, и все тут?
— Да, я хочу винтовку.
— Винтовку?
Лейтенант Хамид улыбался. Али не знал, сердится он или забавляется.
— А что ты будешь делать с винтовкой?
Лейтенант засмеялся. Али тоже засмеялся.
— Ложись!
В небе громко раздавалось глухое и добродушное урчание большой стрекозы. Попадая в полосу света, стрекоза искрилась фейерверком маленьких металлических солнц. Под определенным углом лопасти винта неожиданно сверкали, словно лезвие сабли. Лейтенант ткнул голову Али в землю. Али удивился, почему этот грациозный, весь в блестках танец насекомого, опьяненного солнцем, был до такой степени опасен. В передней части вертолета можно было различить двоих людей.
— С хорошей винтовкой…
Лейтенант Хамид не ответил.
— Почему в них не стреляют?
— О! Да… ты задирист! — сказал лейтенант.
Оба рассмеялись. Они не отрывали глаз от насекомого, жужжавшего в солнечных лучах.
— Они никогда не опускаются слишком низко… Из-за твоей винтовки. Но видишь ли, даже и тогда…
Он прикрыл левый глаз, согнул указательный палец на спусковом крючке воображаемой винтовки.
— Пам! Он взрывается… Падает штопором… И тебе не остается ничего другого, как идти подбирать оружие.
— Если мне дадут винтовку…
— Да, если тебе дадут винтовку, ты выстрелишь, собьешь вертолет вместе с двумя парнями, двумя автоматами и… Через полчаса появятся самолеты и пустят в расход весь наш отряд: девять человек, девять винтовок… не считая всего остального.
Стрекоза несколько минут шарила над мертвыми, изнемогающими от солнца горами, потом, набрав высоту, нырнула в сторону Блиды. И вот уже в опустевшем на мгновение небе опять медленно закружили голодные вороньи стаи.
Хамид и Али вышли из пещеры. Лейтенант резко обернулся к Али.
— А кто мне докажет, что ты не из полиции, что ты не служишь во Втором бюро[46], что тебя не купили, что ты не предатель, не вражеский шпион?
— Вот мои документы, — сказал Али. — Я родился в Тале. Мне двадцать лет.
Али видел, что лейтенант уже не слушает его.
— Ладно. Ты ел?
— Да, как раз перед тем, как прийти.
— Тебе повезло. И пил тоже?
— Да, конечно.
— Вот это да!.. И с женой спал… Как раз перед тем, как прийти… разумеется.
— У меня нет жены.
Подошел высокий смуглый парень.
— Что будем делать с ранеными, лейтенант? Бинтов, вы знаете…
— Они жалуются?
— Нет, но им плохо.
— Нужно эвакуировать их сегодня ночью. Найди мне добровольца.
У лейтенанта был толстый живот, ребята из отряда смеялись: как у буржуя. Разговаривая, он имел привычку засовывать большой палец за ремень.
— Ну-ка, поди сюда, давай поищем тебе винтовку.
Смуглый засмеялся. «С чего бы это?» — спрашивал себя Али.
Они поднялись на гребень, и перед их глазами открылась долина Блиды. Вся в прямых линиях: дороги, границы помещичьих полей, ограды из сосен, просто сосны, деревни. Стрекоза превратилась уже в едва заметную точку на горизонте.
С аэродрома Буфарика поднялся самолет.
— Видишь?
— Да.
— А что ты видишь?
— Долину Митиджа.
— А что ты видишь в долине Митиджа?
— Виноградники, фермы… полно виноградников и полно ферм.
— И еще полно вражеских солдат, полно винтовок, пулеметов, гранат, автоматов, самолетов, стрекоз, камер для пыток, тюрем. У нас оружия нет. Вот уже шесть месяцев, как мы не получали и пистолета.
Лейтенант посмотрел Али в глаза. Он стал вдруг серьезным и будто печальным.
— А там полно винтовок. — Он показал на Митиджу: — Если хочешь достать винтовку, за ней надо идти туда. Пойдешь, когда захочешь.
Лейтенант сунул палец между толстым животом и портупеей и удалился тяжелой раскачивающейся походкой.
Али снова спустился в Блиду… А через неделю вновь поднялся в Шрею… с отличным автоматом!
— Вот это да! — сказал лейтенант.
В воздухе пахло ладаном… или то были первые цветы? Башир удивлялся, что не слышно цикад среди деревьев. Светило солнце, солнце весны, заблудившейся где-то в феврале. Давно уже Башир не ездил по этой дороге на Тизи-Узу. Сначала он хотел свернуть на окольную дорогу, через Палестро и Куиру. Но это значило просто выдать себя: «дё шво»[47] с номером врача на горных дорогах… все равно как если бы прямо сказать им: я еду к Амирушу.
Но в общем-то он сам удивился, что все произошло так просто. Он никогда не думал, что сможет так легко оставить Клод, Рамдана, алжирскую гавань, а главное — оковы мелких обыденных привычек, подленький комфорт легкой жизни. Нет, конечно, это не из-за служащего: раз он не заговорил в первую ночь, он так ничего и не скажет. И не из-за Клод. В глубине души он прекрасно знал, что когда-нибудь это кончится именно так. Если поразмыслить хорошенько, Башир вынашивал в себе это решение уже давно… с самого начала. Только оно могло распутать все его противоречия, найти выход его порывам, помирить наконец его жизнь с его сердцем. «Дё шво» тихонько, но упорно, километр за километром, одолевала асфальтовую ленту дороги.
Приехав в Талу, Башир больше всего боялся излияний и этой способности горцев сразу же завладевать вашей жизнью, будто она в равной степени принадлежит и им, их способности располагаться в вашей жизни, как у себя дома, судить вас, оценивать и — в конечном счете — осуждать. Любая малость считается в Тале событием, а уж возвращение блудного сына после десяти лет отсутствия питало бы здешнюю хронику месяцев десять. О нем говорили бы на площадях, у родника, на улице, на вечерних сходках у огонька. И вскоре все всегда знали бы о нем ничуть не меньше, чем он сам. Но, видно, война многое изменила. Когда впервые после десяти лет он появился на площади Ду-Целнин в своем европейском костюме, слишком хорошо сшитом и потому казавшемся ему непристойным, он ждал, что парни будут шумно его приветствовать, что ему придется выслушать неизбежные нравоучения из уст мудрых стариков, что детвора бросится к нему шумной гурьбой… Встретили его с вежливым и, как показалось Баширу, даже натянутым безразличием.
Парни поднялись, чтобы пожать ему руку, он поцеловал, как полагается по обычаю, старцев в лоб, но никто его не спросил, откуда он приехал, что собирается делать, когда уедет и куда…
— Ты перестанешь кричать? — сказал Башир.
— Замолчи, Ахмед, слушайся дядю. И не стыдно тебе плакать? — сказала Фарруджа.
Из темноты послышался голос Смины:
— Он голоден.
— Дайте ему поесть.
— Ничего нет.
Башир достал из кармана бумажку.
— Вот деньги, — сказал он, — ступайте купите чего-нибудь.
— Купить нечего, — сказала Смина.
— Как это?
Башир смутно почувствовал свою вину.
Объяснений, которых он ждал, так и не последовало. Мать, забившаяся в темный угол, где ее не было видно, была не очень-то разговорчива. Фарруджа время от времени вставала взглянуть на детей.
— Ну кускус-то есть в доме?
Монотонный голос Смины ответил:
— Армия каждому выделила паек муки, растительного масла, зерна — всего. Этого хватает на то, чтобы поесть только раз в день.
— Для тебя, — сказала Фарруджа, — у меня осталось еще немножко кускуса.
— Это для детей, — сказала Смина.
— Я не хочу есть, — сказал Башир.
— Завтра, — сказала Смина, — нужно пойти попросить паек для тебя у Тайеба.
Фарруджа увидела удивленные глаза Башира.
— Теперь он у нас начальник, — сказала она.
— Завтра меня вызывают в САС[48]. Я спрошу карточки у самого лейтенанта, так будет быстрее.
— Я хочу есть!
— Это он во сне, — вздохнув, сказала Фарруджа.
Ахмед наконец заснул, но и во сне ему снилось, что он хочет есть.
Баширу было не по себе.
— А старший брат, Белаид? — спросил он.
— Белаид продал свою душу христианам… Они построили ему деревянный дом там, рядом со своими… и он доносит на мусульман. А потом нужно еще дождаться, чтобы он протрезвел, а этого с ним не случалось с тех пор, как он вернулся из Франции.
— Мать! — сказала Фарруджа. Она тотчас же повернулась к Баширу: — Старший брат Белаид в хороших отношениях с французами, но пайками ведает не он, нет, пайки — это Тайеб.
— Я пойду спать, — сказал Башир, — спокойной ночи.
Он стал подниматься наверх, в комнату, которая служила и кладовой. Уже на пороге его опять догнал безучастный голос Смины:
— Когда завтра пойдешь к лейтенанту, тебя будут расспрашивать.
— Конечно, — сказал Башир.
— Не болтай много… и не умничай. Чем глупее будешь, тем лучше.
— Мать, — сказала Фарруджа. — Башир ведь прекрасно знает…
— Он ученый, был в школе ирумьенов[49], умеет находить болезни в теле, умеет их лечить, но… пусть не забывает, что я ему сказала: чем глупее он будет, тем лучше для него… — И, помолчав, добавила: — И для нас!