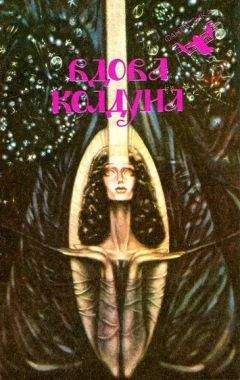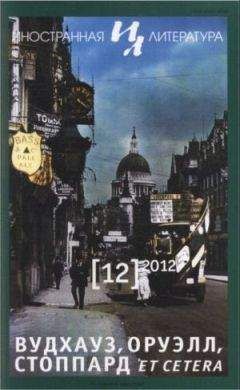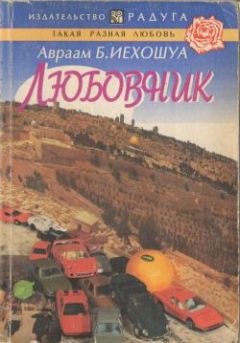— Да, сэр, контратака была весьма серьезной, но я уверен, что генерал ждет не дождется возможности самолично показать вам район, где велись бои, посвятить во все военные хитрости, и я не хочу отнимать у него пальму первенства, тем более, что в вопросах стратегии я скорее любитель, чем профессионал, да и непосредственно по нашему делу мне надо еще так много рассказать. Когда перед Рождеством небо прояснилось, Мани стал выходить из дому. В городе во всю уже дули новые ветры: были отведены здания под штаб и комендатуру, появилось много колючей проволоки, полиция, разного рода чиновники, политические и прочие деятели — все просто сбиваются с ног, евреи ликуют, арабы в шоке; тем временем опять зарядили дожди, что ни день, то туман, как будто наша армия принесла с собой лондонский смог, и он по-прежнему думал: вот, пожалуйста, — одни иностранцы сменили других.
— Совершенно верно, сэр. Я сам себе неоднократно задавал этот вопрос. А чего, собственно, ждал этот хомо политикус? О чем он думал? Что мы завоюем город, передадим все бразды правления местному населению, раскланяемся и уйдем?
— Вы совершенно правы, господин полковник, потому что это и был самый решающий, может быть, даже роковой момент, когда зерно измены, которое лениво переваливалось с боку на бок, нежась в своей прохладной и влажной лунке, набираясь живительных сил, вдруг лопнуло, раскололось на сотни частиц, как будто на него брызнули кислотой, пустило тысячи тонких едва заметных побегов-паутинок, теряющихся между кочками, и, казалось, достаточно легчайшего ветерка, чтобы их оборвать, но умеющий видеть сразу бы распознал, что на самом деле зерно превратилось в растение — корень и стебель, и отныне будет неустанно и неудержимо расти и расти. Так вот: он является в штаб, где все ему очень рады (в суете первых дней оккупации о нем, таком испытанном переводчике, просто забыли); он, сэр, заходит к начальнику штаба дивизии майору Стенфорду, предъявляет свой английский паспорт, и тот тут же, на месте ставит его на учет, выдает ему форму, пробковый шлем и даже старый пистолет, котелок и медальон с личным номером, ему присваивают чин капрала и устанавливают оклад — четверть фунта в неделю, наш майор Кларк закрепляет все это своей подписью, и отныне он — штатный переводчик в армии Его Величества.
— Конечно, сэр, все документы заверены и подшиты к делу, лежащему перед вами, что очень и очень отягощает его, как в прямом, так и в переносном смысле.
— Совершенно верно, сэр, весьма и весьма неосмотрительно, не проверяя, насколько он лоялен, насколько надежен, — правда, они помнили его но осенней кампании, когда армия Алленби прокладывала себе путь к Иерусалиму; поэтому неудивительно, господин полковник, что очень многие заинтересованы сейчас поскорее покончить с ним и заодно похоронить подписанные ими тогда документы; но как бы то ни было, с того момента он стал своим человеком в штабе, ему даже выделили стол, за которым он переводил приказы губернатора, а вечером он возвращался домой и забирался в кровать вместе с сыном и своей тихой-тихой женой; он закрывал глаза и вспоминал дни, когда он ездил по арабским деревням в сопровождении офицеров и в каждой произносил свою речь; в одну из таких ночей в сердце его, сэр, проснулось сочувствие к арабам…
— Да, сэр, к арабам, но только как повод, не ради их самих, потому что корень жадно всасывал все, что мог найти в недрах земли, чтобы дать силу стеблю.
— Да-да, сэр, я как раз сейчас перехожу к этому. Так в чем же он, собственно, разочаровался и что из этого вытекает? Дни идут, он расхаживает в английской форме и пользуется всеобщим уважением, но по вечерам снимает ее, надевает черный пиджак, берет сына, проходит через Старый город, мимо Западной стены Храма и огромных мечетей, взбирается на Масличную гору, где похоронены его отец и дед, доходит до странноприимного дома «Августа-Виктория» и монастыря Тура-Малка — все эти места я могу показать на карте; там неподалеку небольшое арабское кафе, он сидит, пьет кофе и слушает их разговоры. Оттуда он направляется на собрания своих соплеменников, там звучат речи, появляются достопочтенные гости — евреи из европейских стран, они впопыхах рассказывают всякие ужасы и уезжают восвояси, а на севере время от времени раскатывается эхо пушечных выстрелов, которыми изредка с прохладцей обмениваются армии; но затаившийся в земле корень измены пока еще не представляет, какие побеги он пустит; и так до того дня, когда он вошел в один из кабинетов в штабе, просто случайно, выбросить черновик, комната была пустой, издалека доносился смех офицеров, игравших в футбол теннисным мячиком, а в корзине для бумаг он увидел свернутую в трубочку карту, он взял ее и сунул за пазуху; когда он развернул ее вечером дома, оказалось, что это план наступления Двадцать второго полка в Заиорданье. Он спрятал карту в мешочек с таллитом[51] и в субботу, как обычно, пошел с сыном молиться. Когда служба кончилась, он отвел сына домой, а сам углубился в Старый город, купил абайю, завернулся в нее, вышел из Яффских ворот и шел три часа до этой вот линии — видите ее на карте? Если вы пожелаете увидеть, так сказать, маршрут измены собственными глазами, я с удовольствием вас провожу. Он добрался до городка под названием Рамалла, прошел его насквозь, как лунатик, и вышел в поле. Там палатки, траншеи, но неглубокие, не такие, как под Верденом. Английские солдаты устраиваются на чаепитие. Он миновал их позиции, спустился с холма и поднялся на другой, там его застиг дождь, и вот он уже почуял запах турецких костров и турецкого чая, и увидел турецких солдат в потрепанных мундирах. Вот они перед ним, так сказать, живьем, как в старые времена, ведь он, можно сказать, лицезрел их от рождения в иерусалимских переулках. Сейчас они, проигравшие войну, сидят, греются у огня, пересмеиваются потихоньку, вечно голодные, жуют кончики усов; он подошел и обратился к сержанту, передал ему английские военные планы и попросил позвать офицера, тот явился, но ничего не понял и сказал, что сейчас приведут немца — ведь немец обязательно должен быть. Послали за немцем, а он стоял и ждал, зачарованно глядя в огонь, солдаты пялились на него, разинув рты, вдалеке были видны огни какой-то арабской деревни, какой точно он не знал, судя по карте, должно быть, Ал-Бира, он глотал слюну и ждал, дождь хлестал, а он и не чувствовал, словно промокшая насквозь абайя надета не на нем, а на ком-то другом. Появились трое на лошадях, немец спешился, разгоряченный, проворный; это был Вернер фон Караян, у нас его знают, хитрющий лис; он сразу разобрался, понял, что планы доподлинные, что значение их трудно переоценить, и с жадностью набросился на них; но для разговора с переводчиком потребовался переводчик, и таковой явился — маленький турок в феске, в очках, очень смуглый — ну прямо его близнец; заблистали монеты, но он отказался немедленно и наотрез — он ни разу не брал у них денег, а потребовал, чтобы собрали жителей двух деревень и дали ему возможность обратиться к ним. Они спросили: обратиться с чем? Но он не ответил, даже не посмотрел, а только еще раз сказал: хочу обратиться к ним. Турки согнали людей в один момент, без церемоний, только бич свистел — женщин, детей, стариков, пастухов, феллахов с полей, как были — с мотыгами, вилами, они и спины не успели разогнуть, тут же овцы, ишаки, то там, то здесь красная засаленная феска интеллигента-учителя… Начинало смеркаться, но небо как раз прояснилось и дождь прекратился, последние докрасна раскаленные лучи зимнего, но очень жгучего солнца разбивались о деревенскую площадь, преломлялись в лужах нечистот. Он потребовал стол, в деревне стола не нашлось, ему принесли кровать, положили поверху доску, он сбросил абайю и предстал перед ними в черном костюме и в галстуке — словно из серой бесформенной массы выбился узкий и острый язычок черного пламени. Он взобрался на доску, сэр, вокруг стало тихо, он несколько раз качнулся взад-вперед, будто молясь, и заговорил по-арабски. Сказал он примерно следующее: "Кто вы такие? Проснитесь, пока не поздно, пока еще все не пошло вверх тормашками. Решите наконец, кто вы такие, — он достал из кармана Декларацию Бальфура, которую специально для этого случая перевел на арабский, и зачитал, как она есть, без комментариев, а потом продолжил: — Эта земля ваша и наша. Половину — вам, половину — нам". Он указал на Иерусалим, едва различимый в дымке вдали на горе. "Там англичане, — сказал он, — здесь турки, но и те и другие уйдут, а мы останемся. Пробудитесь, спать больше нельзя".
— Да, сэр…
— Именно, сэр: "Пробудитесь, спать больше нельзя". Это был лейтмотив его речи, которая-то и длилась всего несколько минут, потом он протянул руки турецким офицерам, которые стояли вокруг, переминаясь с ноги на ногу, меся сапогами страшную грязь. Они сняли его с доски и вынесли на плечах, чтобы он не завяз в грязи; толпа не шелохнулась, никто не понял ни слова, никто не издал и звука, так они и стояли, теряясь в догадках, какое новое бедствие свалилось им на голову. Какая земля? Какая страна? Они даже не знали, где начинаются и где кончаются их поля… Он завернулся в абайю, почти стемнело, немец вокруг него прямо так и вился, его проводили до нейтральной полосы, и он обещал, что придет в следующую субботу и принесет еще документы.