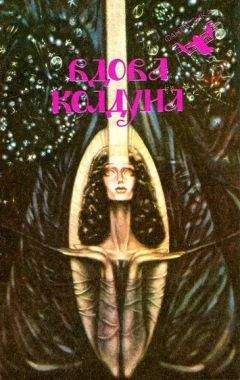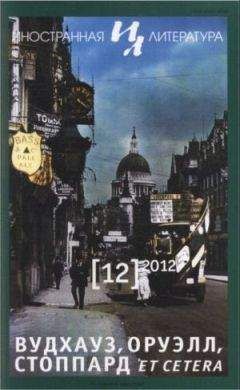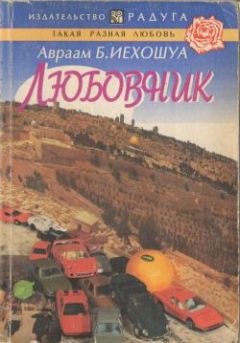— Да, все это он нашел в корзинах с мусором.
— Да, скандал уже был, и очень большой, нескольких офицеров отдали под суд, разработаны новые инструкции, был срочно вызван офицер спецслужбы из Каира, он сидит у нас уже где-то с неделю. Завтра, когда побываете с генералом в штабе, увидите сами: в корзинах для мусора нет ни одной бумажки, они просто сверкают; выделен специальный сержант, который вместе с двумя солдатами целыми днями только тем и занимается, что сжигает мусор; возле церкви на Русском подворье вечно вьется дымок, его видно даже сейчас, когда распогодилось, прямо из вашего окна; видно, между прочим, и одного из этих черных воронов, которые наверняка знают о вашем приезде, приезде председателя суда — откуда не спрашивайте; знают и о том, что я явился к вам с докладом.
— Да, сэр.
— Да, сэр.
— Вон там, сэр, если сможете разглядеть.
— Черное пятно, сэр, именно черное пятно; эти черные пятна неотступно следуют за мной третью неделю, потому что знают — опасность
приближается, петля затягивается на шее. У меня уже побывали два их ходока: старенький адвокат и судебный писарь, который умеет связать пару слов по-английски, они попросили устав военного суда, я им сразу же выдал книгу и отвел место в комнате, они просидели целый день, разбирая по косточкам каждое слово, каждую запятую, словно это Талмуд.[52] Я принес им чай, но они ни к чему не притронулись; к концу дня, усталые и побледневшие, они вернули мне книгу, держа ее осторожно, кончиками пальцев, словно в ней уже заложена смерть, как бы складная виселица, печально покачали головами, переглянулись и стали спрашивать, не знаю ли я некое семейство Гурвиц в Лондоне, а когда я ответил отрицательно, то начали перебирать Гурвицев во всем мире, ища таких, которых я готов был признать своими родственниками, и они могли бы передать от них привет; потом, так и не найдя, повздыхали и изменили тактику: этот Мани сумасшедший, принялись нашептывать они, разве пристало великой Британии заниматься всякими сумасшедшими, вот и отец его сам наложил на себя руки, может, смилостивитесь? Но я, господин полковник, посмотрел им прямо в глаза и твердо сказал: "Вы ведь прекрасно знаете, что он не сумасшедший".
— Нет, сэр, в нем нет и той малой толики безумия, которая кроется за всякой рассудочностью и вдруг проступает, как кисловатый запах в жарко протопленной комнате. Ни в коем случае. В нем нет даже зародыша помешательства, которое может в конечном счете свести человека с пути. Он абсолютно в здравом уме, господин полковник, и чтобы не творилось у него в душе, рассудка и воли он не потерял и полностью властен над своими словами и над своими поступками — говорит точно, что хочет, чего не хочет — не говорит; я, например, знаю, что он готовит большую политическую речь, с которой он хочет обратиться, но не к нам, а к присутствующим в зале и журналистам, ибо он из тех, которые любят, чтобы аудитория была побольше и слушали бы их затаив дыхание. Он рассчитывает, что я вначале скажу все, что мне положено, а потом он встанет и произнесет речь, которая потрясет Иерусалим, потому что все будут знать, что он после этого взойдет на эшафот. И я уверен, что именно ради этого ноги привели его прямо к заставе солдат Ольстера, хотя он мог без труда обойти ее и справа и слева; ему было мало арабов, которые слушали его по приказу турок, он хотел, чтобы его услыхал весь Иерусалим.
— В этом все дело, сэр. Наверняка я ничего не знаю, но я чувствую, как он затачивает свой отравленный кинжал; я пытался из него хоть что-нибудь вытянуть, но мне, по сути, ничего не удалось. Черновик своей речи он написал на иврите, а когда я попытался наложить руку на эти бумаги, он просто-напросто проглотил их, и теперь речь существует только в его мозгу.
— Вы увидите его завтра, и даже если вам покажется, что он внимательно следит за происходящим, не верьте — он будет думать только над речью, в которой наверняка попытается представить эту землю как вечное и великое поле боя, грозящее великими бедствиями; он будет говорить о тысячах и тысячах, которых здесь еще нет, но которые, как саранча, в какой-то миг поднимутся из пустыни, совершат перелет и сядут на эту землю. На самом же деле, если вы посмотрите вокруг, господин полковник, то увидите одно запустение и жалкую горстку людей. Я говорил ему: "Бросьте, возьмите адвоката, который расскажет о вашем детстве, о том, что вы выросли без отца. Вас ведь повесят, и, разглагольствуя о политике, вы только затягиваете петлю на своей шее". В ответ он только невозмутимо улыбался — хомо политикус в своей политической безмятежности. Да, его действиями руководит политика, но я знаю, и это не дает мне покоя, что есть тут что-то еще, он будто бы мстит кому-то далекому, а политика — это только навязчивая идея, завладевшая им.
— Очень здравая мысль, она приходила и мне в голову, сэр. Как-то раз я приказал оставить в его камере на ночь веревку, а в потолок, как бы невзначай, вбили крюк; охранникам я велел не обращать на него внимания, — может, повесится; но он вывинтил крюк, обмотал веревкой и утром отдал мне все это без единого слова; это означало, что он ни за что не откажется от своей речи. Я хотя и не могу знать точно, что он там скажет, предпочел бы, конечно, чтобы Бог нас миловал, потому что эта речь наверняка будет направлена против нас и породит много толков и пересудов.
— Нет, сэр, его речь, разумеется, не изменит приговора, ему суждено быть казненным, разве что черные вороны доберутся до Букингемского дворца и принесут в клюве помилование, выпрошенное у Его Величества. Обвинение четкое и не допускающее компромисса, вопросов никаких, есть только ответы. Что же касается меня, то не думайте, сэр, это я здесь как будто теряюсь в сомнениях, завтра на суде я буду тверд, как кремень, оба ваших коллеги настроены категорично — подполковник Кипор жаждет крови, спит и видит, как бы повесить этого Мани на одной из пушек, которые из-за него были потеряны в Трансиордании, на меньшее подполковник не согласен… ни за что не согласен. Но, сэр… Сейчас я говорю как гражданин… гражданин Великобритании… если возможно… ведь когда начнется суд, все пойдет очень быстро, так быстро, что мы будем уже не властны… Я считаю, что надо подумать сейчас… тут ведь…
— Простите? Да, сэр, тут уже нашлись доброхоты, которые это проверили, — в крепости есть виселица, оставленная турками, веревок и крюков там столько, что хватит, чтобы перевешать нас всех; если бы турки позаботились о снарядах так, как они позаботились о веревках, я думаю, что победа досталась бы нам со значительно большим трудом; есть и араб, который был помощником палача, он обещает подготовить все в наилучшем виде… Поэтому я и говорю… ведь… я говорю все время… ведь мы видим… видим, что…
— Простите, сэр?
— Ребенок? Какой ребенок? А, ребенок… Я вам рассказывал… Я думаю, сэр… то есть… в каком смысле?
— О!..
— Да, да…
— Сейчас, сэр, конечно, я понимаю…
— Его зовут Эфраим, обвиняемый утверждает, что ребенок его, и нет оснований ему не верить, несмотря на то, что внешнее сходство весьма отдаленное: мальчик светлый, голубоглазый. Мать-то его умерла — не проверишь. Она, по слухам, была из России или из каких-то тех мест, еврейка; он выудил ее из груды баулов и чемоданов, которые сняли с поезда на бейрутском вокзале; уже тогда было видно, что она больна, — чахотка, наверно; революционерка или что-то в этом роде, их ведь не разберешь: иногда учинят что-нибудь против мамы с папой, а воображают, что прямо революцию против властей устроили, и бегут. Как бы то ни было, она прибилась к нему, и он, хотя и был умудрен опытом: у этих бродяг бывает всякая блажь, их лучше остерегаться, но тут не остерегся, а может, их сблизило то, что у нее, как и у него, было сильное политическое самосознание; в общем, она чем-то тронула сердце этого угрюмого закоренелого холостяка. Она же, возможно, хотела от него только ребенка, потому что делать последний шаг к Палестине боялась или не верила, что ей хватит сил, и хотела, чтобы ее что-то привязало к этой земле, — трудно сказать, он не любит распространяться на эту тему. В общем, жили они очень бедно, в этой гостиничке возле вокзала — я рассказывал вам о ней — в западной части Бейрута, в мусульманском квартале; надеюсь, что мы, с Божьей помощью, сможем скоро увидеть все это собственными глазами; прожили они так год-два, а когда пришло время рожать, то в больницу идти побоялись — там спрашивают документы, а турки уже начали высылать иностранных подданных. Он надеялся, что сможет принять роды сам, ведь много лет назад он видел, как рожают, и даже перерезал тогда пуповину, кроме того он еще пригласил повитуху-мусульманку. Мать была очень слабой, да еще потеряла много крови и на следующий день скончалась. Он остался один с ребенком на руках; как я уже говорил, ребенок, может быть, немного медленно развивался и немного заикался, но был не обременительным, и день ото дня становился все краше — он унаследовал предвещающую недоброе красоту матери; когда Мани ее повстречал, она выглядела уже очень плохо, была очень больна, но, глядя на ребенка, раскрывающегося, как бутон, он понимал, насколько хороша собой она была на самом деле, и ее красота возвращается к нему сейчас через ребенка. Вы увидите его завтра, господин полковник, он будет сидеть в первом ряду прямо напротив вас, я разрешил привести его на первое заседание, чтобы в его памяти запечатлелся зал — офицеры, военная форма, чтобы он помнил, что отца его судили по справедливости, а не просто взяли да и…