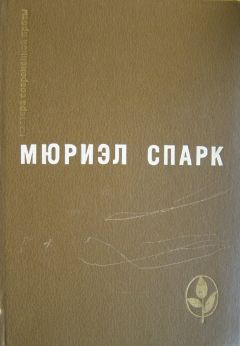Алек попросил у регистратора конверт, сунул туда листок, надписал адрес, наклеил марку. В вестибюле был почтовый ящик: он сходил опустил письмо и вернулся успокаивать Джанет.
*
Превеликими стараниями доставив Джанет Джопабоком в ее гостиницу, Алек чувствовал, что хоть он и устал донельзя, зато день прошел не зря.
Размышляя о Мэте О'Брайене — о его жалкой бесполой плоти и волосах на подушке, о том, как старик глядел то на него, то на Джанет, — Алек припомнил почти столетнюю миссис Бин, сменившую миссис Грин в палате Джин Тэйлор. Черты вовсе не схожие, но одно общее свойство: не сразу понятно, мужчина перед тобой или женщина. Он решил сделать на этот счет заметку в карточке Мэтью О'Брайена.
Его как-то вдруг охватила усталость, и он остановил такси. По дороге домой его занимал вопрос, почему это научное наблюдение так разнится от общечеловеческого и как это те же люди, под разным углом зрения, различно выглядят. Приходилось признать, например, что миссис Бин, изучением которой он пренебрег, как-никак вознаградила его такой черточкой, обычно ускользавшей от него при даже очень пристальном наблюдении. Но все-таки его разработанный метод был в целом удовлетворителен.
Мимо прогрохотала пожарная машина. Алек откинулся в угол и прикрыл глаза. Такси завернуло за угол. Алек выпрямился и поглядел, обозревая вечерний город. Такси катило по Пэлл-Мэлл к Сент-Джеймс-стрит.
Водитель приоткрыл окошко и обратился к пассажиру.
— Где-то поблизости горит, — сказал он.
Алек вдруг оказался в толпе возле своего пансиона. Кругом стояла полиция, дым, люди, пожарные, вода, потом крик из толпы, и все запрокинули головы, когда сверху здания вырвался язык пламени.
Алек протолкался в первый ряд. Перед ним была заграждающая рука полисмена.
— Я там живу, — сказал Алек. — Позвольте пройти.
— Туда нельзя, — сказал полисмен. — Извольте отойти.
— Осади назад! — гудела толпа.
Алек сказал:
— Да я же здесь живу. Вещи у меня там. Где швейцар?
— Дом горит, сэр, — сказал полицейский.
Алек бросился вперед, обошел полисмена и оказался в подъезде, в сырости и в дыму. Кто-то ударил его в лицо. Толпа подалась назад: из нижнего окна рванулся дымный язык пламени. Алек стоял и глядел, пока к нему не подошел еще один полисмен — уже с другой стороны.
— Отойдите, — сказал полисмен, — вы мешаете пожарным.
— Там у меня бумаги, — сказал Алек.
Полисмен взял его под руку и оттащил назад.
— Кот у меня там, — отчаянно сказал Алек, — у меня кот. Нельзя же, чтобы он сгорел. Позвольте, я его выпущу. Риск мой, беру на себя.
Полицейский не отвечал, оттесняя Алека подальше от огня.
— У меня там собака. Полярная лайка, из северной экспедиции, — умолял Алек. — Верхний этаж, первая дверь.
— Поздно спохватился, начальник, — сказал пожарный. — Собака ваша, видно, сгорела. Верхний этаж весь в огне.
Кто-то из здешних в толпе осмелился:
— Домашние животные тут не позволены. Вообще нельзя.
Алек пошел прочь и снял комнату на ночь в своем клубе.
Лето кончилось, и настал день рождения бабуни Бин, к которому вся палата очень готовилась.
Испекли громадный пирог на сто свечей. Пришли газетчики и еще другие, с телекамерами. Был разговор с бабуней Бин: ее подперли подушками и облачили в новую синюю пижаму.
— Да, — отвечала им бабуня Бин еле слышным переливчатым голосом, — да, я прожила очень долго.
— Да, — сказала бабуня Бин, — да, я очень счастлива.
— Действительно, — соглашалась она, — я еще девочкой видела однажды королеву Викторию.
— А как вы себя чувствуете в свои сто лет, а, миссис Бин?
— Отлично чувствую, — слабо отозвалась она, кивая головой.
— Нечего ее утомлять, — сказала сестра Люси, которая по праздничному случаю ходила с медалью за выслугу лет.
И они накинулись на сестру.
— Семеро детей, и только один из них жив, проживает в Канаде. Начала подручной швеи, в одиннадцать лет...
Сестра-хозяйка пришла в три часа и зачитала телеграмму от королевы. Все аплодировали. Бабуня Валвона заметила:
— «...по случаю вашего сотого дня рождения» — это как-то не так. Королева Мария, та всегда поздравляла: «...ввиду вашего столетия».
Впрочем, все согласились, что это примерно одно и то же. Сестра-хозяйка задувала свечи вместо бабуни Бин. На двадцать третьей свечке она выдохлась, и сестры задули остальные. Разрезали пирог, и один из газетчиков возгласил:
— Ура, ура и еще раз ура бабуне Бин!
Веселье стихло, и все разошлись к тому времени, как начали прибывать обычные посетители. Некоторые долгожительницы доедали пирог, другие находили ему иное применение.
Мисс Валвона поправила очки и взялась за газету. Она прочла в третий раз за нынешний день:
— Двадцать первое сентября — сегодня у нас день рождения. Что сулит нам предстоящий год? «Вы вправе ожидать больших событий. С декабря по март показания противоречивы. Лица, связанные с музыкой, транспортом и индустрией мод, испытают в будущем году ощутимый прогресс в своих делах». Ну вот, бабуня Бин, вы же были связаны с индустрией мод? И здесь черным по белому сказано...
Но бабуня Бин, обложенная подушками, попила тепленького и тихонько задремала. Ротик ее опять сложился овальчиком, издавая слабое, переливчатое посвистывание.
— Что у вас тут, праздник? — спросил Алек Уорнер, поглядев на развешанные гирлянды.
— Да, сегодня миссис Бин исполнилось сто лет.
Морщины на щеках и на лбу Алека обозначились глубже. Прошло четыре месяца с тех пор, как сгорели все его заметки и картотеки.
Джин Тэйлор говорила ему:
— Ты попробуй, Алек, ты начни все снова. И сам увидишь, как за работой, как в процессе работы все-все припомнится.
— Никогда я не смогу довериться своей памяти так, — возражал он, — как я доверял своим картотекам.
— Ну и все-таки, начни ты все сначала.
— Куда уж мне, — говорил он, — возраст мой не тот. Сколько лет работы пропало. Цены им не было.
Он редко упоминал о своей утрате. Иногда он чувствовал, как сказал однажды, что его уже нет на свете, как и его картотек. — Это у тебя, Алек, идея скорее даже метафизическая, — сказала она ему. — Реально-то ты не умер, а, вот видишь, живой.
Что верно, то верно, сказал он ей, он и правда в мыслях перебирал свои записи, словно перещупывал карточки.
— И все равно, — сказал он, — никогда я больше ничего не запишу. Я теперь читаю. В своем роде оно даже и лучше.
Она перехватила его почти людоедский взгляд на столетнюю бабуню Бин. Он вздохнул и отвернулся.
— В старости, Алек, всем нам кажется, что жизнь прошла без толку, просто потому, что мы к ней очень были привязаны. А на самом деле мы все-таки исполняем свое назначение.
— Один мой приятель свое исполнил.
— Да ты о ком?
— Мэт О'Брайен в Фолкстоне. Мнил себя Богом. И недавно умер во сне. Оставил целое состояние, сам о том не подозревая. Ну то есть Лизины деньги. Родственников нету.
— Значит, Гай Лит все-таки...
— Да нет, Гай тут уж ни при чем. Видимо, согласно завещанию, Лизе наследует миссис Петтигру.
— Ну что ж, — сказала мисс Тэйлор, — стало быть, она в конце концов обретет свою награду.
*
Миссис Петтигру обрела свою награду. Лизино завещание теперь явно было в ее пользу, и наследство досталось ей целиком. После первого инсульта она поселилась в гостинице в Южном Кенсингтоне. Часам к одиннадцати утра она регулярно появляется в Харродз-банке, встречает там других пожилых обитателей своей гостиницы, сетует вместе с ними на плохое обслуживание и измышляет стратагемы против горничных, официантов и администрации. А вечерами можно видеть, как она, не дожидаясь гонга к обеду, распихивает встречных и поперечных и спешит занять удобное место у двери в гостиную.
Чармиан умерла на следующий год в одно весеннее утро, восьмидесяти семи лет от роду.
В том же году скончался и Годфри, врезавшись во встречную машину на углу Кенсингтон-Чёрч-стрит. В столкновении-то он остался невредим, а умер через несколько дней от пневмонии, которой заболел из-за нервного потрясения. Зато пара во встречном автомобиле была раздавлена в лепешку.
Гай Лит умер на семьдесят девятом году жизни.
Перси Мэннеринг обитает в доме для престарелых, где именуется «Профессором» и пользуется сугубым уважением: его кровать занимает нишу в дальнем углу общей спальни — тем самым как бы признано, что он знавал лучшие дни. Его внучка Олив не забывает его навещать. Она забирает у него стихи и письма к издателям, перепечатывает их и отправляет согласно указаниям Перси.
Рональду Джопабокому разрешается вставать с постели во второй половине дня; но пережить еще одну зиму ему, видимо, не суждено.