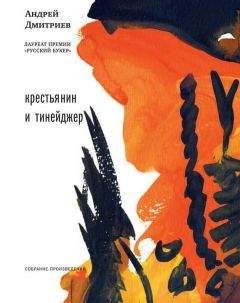Мог Кок узнать его глаза в прорехах маски или не мог? И можно ли вообще узнать глаза отдельно от лица?.. Тортист отпрянул от окна.
Что там, в глазах? Белок, зрачок. Хрусталик, радужная оболочка, роговица. Глазное яблоко, сетчатка. Цвет. Он разный, но ведь это только цвет: зеленый, карий, голубой — он всюду голубой, зеленый, карий; и ничего в нем нету личного. Злоба и боль в глазах у Кока — это всего лишь расширение зрачка и мимика вокруг глазного яблока, и перекошенная рожа. И все, что говорится о глазах, которые такие и сякие, то добрые, то злые, то тайна в них, то бездна, то испуг, и все, что сказано о ласковых глазах, об умных, глупых, даже о красивых, о проницательных, о пристальных глазах, о лисьих, волчьих, о безумных, о горящих и о глазах, которые легко узнать из тысячи, все это — мимика и ничего другого; все это — красное словцо художников, довольно пошлое, к слову сказать, словцо. А что художники? Художник — выдумщик, он врет, сказал себе тортист, я это знаю лучше всех: я сам художник; говоря короче, Кок не мог меня узнать.
Тортист умиротворенно рассмеялся.
Кромбахер оборвал свой разговор с водителем и обернулся. У него были круглые и красные глаза, и ничего другого о глазах Кромбахера сказать было нельзя, разве что выдумать. Тортист, едва сдержав усмешку, отвернулся и уже через миг был зол: глаза Кромбахера невольно вызвали в нем мысли о работе, и это были утомительно скучные мысли, ведь ничего на свете нет скучнее, чем сутки через двое охранять нефтехранилище, туда-сюда вышагивая по его периметру.
— Я все-таки хотел бы знать, из-за кого сгорела хашлама, — сказал Карп, раскладывая по пластмассовым тарелкам обугленные куски баранины и поливая их густым и черным жиром. — Ну, кто они: братва? ментура? фирма? или, может быть, контора?
— Нет, не ментура: никого ведь не забрали, — сказал пилот. — И не братва: денег не тронули ни у кого… Контора — тоже сомневаюсь: в конторе мух не ловят…
— Короче, фирма, — сказал Гамлет. — Я это так предполагаю.
— Ты лишен слова, — сказал Карп. — Я понимаю: нервы… Но — забыть о хашламе!..
— Брось, Карп, вполне съедобно, — сказал пилот.
— Съедобно, но не хашлама, — огрызнулся Карп. — Хотя согласен: фирма. Кто-то решил захапать Бухту. Место красивое, чего и не захапать! Вот и пугают. Раз пугнут, другой пугнут, а надо будет, и еще пугнут, покуда все, кому положено понять, сообразят: лучше уйти отсюда по-хорошему… Вопрос: какая фирма?
— Это мы узнаем нескоро, если узнаем вообще, — сказал пилот.
Стремухин вспомнил:
— Байрам знает! Кто-то ведь звонил ему на мобильный!.. Кто-то ведь его предупреждал!..
— Такие вещи неудобно спрашивать, — заметил Карп. — Не принято.
— К тому же, — сказал Гамлет, — Борис нам сам сказал: ему собака вещая нагавкала. Можно смеяться, можно не смеяться, ну а вдруг она и вправду вещая?
Все помолчали и невольно огляделись. Возле воды стояли на коленях малолетки: рыжий смачивал в воде полотенце, скручивал в жгут и осторожно прижимал его к шее подруги.
— Храбрая девочка, — проговорила Карина.
— Безмозглая, — поправил Карп и пояснил пилоту и Стремухину. — Вас не было, вы и не видели, а стоило на это посмотреть. Когда вся эта свалка началась, эти, что в масках, я и не знаю, кто они такие, короче, погнались за ее мальчиком. Наверно, думали, он тоже из шпаны, которая на них полезла. А что? Те в плавках, этот в плавках, где тут было разбирать… Мальчик бежит, его почти и догоняют — а тут она решила между ними влезть. И получила дубинкой по шее. Вы ведь заметили: плечо распухло. Теперь боится домой ехать, не хочет показаться в таком виде. Они надеются, к утру пройдет, и будет незаметно.
— Если не сломана ключица, — сказал пилот и, приподнявшись, крикнул: — Эй, молодежь, довольно вам! Идите есть хашламу!
— Я же сказал, — напомнил Карп, — это уже не хашлама.
— Все равно надо поесть, — сказала Карина. — От еды быстрее заживет.
— Да, будет не так больно, — согласился Гамлет.
Темнело быстро и неотвратимо, как в зале старого кинотеатра, и у Стремухина, как и перед сеансом, захватывало дух. Вода, разгладившись и замерев, едва мерцала. Пляж был полон сумрака и пуст, но в черных соснах, примыкающих к нему, пока без криков и без песен, но уже густо, шумно, словно гусеницы в листьях, шевелились люди, прибывшие на пароходе в Бухту. На скрытой соснами поляне они расставили свои столы, и развернули скатерти, и натянули над столами тенты.
Под тентами внезапно вспыхнул свет двух сильных ламп. И сразу вновь зазеленели сосны и засвистел, заныл плохо настроенный микрофон, потом его настроили, повсюду прокатилось: «Раз, раз, раз, раз!», потом опять заныло и наконец утихло; железный мужской голос пророкотал: «Ну а теперь продолжим и на берегу, что так красиво начато на море. Наполним всем, у кого не наполнено, и — полное внимание! Настала очередь сказать свое слово, со слезами смешанное (вы не подумайте чего; я тут не шуточки приплыл шутить: я о слезах любви и благодарности, конечно, говорю), сказать, однако, слово ближайшему, вернейшему помощнику виновника, вернее, юбиляра, его супруге Сусанне Николаевне. Прошу… Сюда, сюда, Сусанна Николавна. Держите микрофон поближе к губкам…». Микрофон отозвался долгим влажным вздохом, потом в нем всхлипнуло, сморкнулось — и в Бухту пролилось прерывистое женское рыдание. Ему ответом было хоровое: «Ну-у, ну-у, ну-у! Ну вот! Ну вот и здравствуйте!», затем разноголосое: «Зачем ты так, Сусанночка?», «Не надо волноваться!», «Ты выпей, выпей, выпей, выпей лучше!», «Дайте же ей воды, еще мужчины называются!», «Ты посиди пока, Сусанна Николавна, потом нам скажешь». «Нет, — видно, справившись с собой, сказала в микрофон Сусанна Николавна. — Нет, я скажу, и вы не обращайте на меня внимания… Дорогой наш Петя! Как только я подумаю…» — вновь в микрофоне всхлипнуло и снова зарыдало.
— Пьяна, — сказал пилот.
— Еще бы, — отозвался Карп. — Они на пароходе начали, как только отошли в Москве от пристани.
— И долго это будет продолжаться? — спросил, поморщившись, Стремухин.
«Внимание! — раздался голос в микрофоне. — Слово просит юбиляр!»
— Обычно это часа на два, ты потерпи, — ответил Карп Стремухину.
«Друзья, — поплыл над берегом бархатный голос юбиляра. — Спасибо вам за все слова, я так волнуюсь, и Сусанночка волнуется… Но я прошу и предлагаю: довольно тостов! Или мы пить сюда приехали? Давайте просто радоваться жизни. Давайте танцевать. Распорядитесь кто-нибудь!»
— Или на час, как повезет, — сказал, подумав, Карп.
Он пододвинул подошедшим малолеткам тарелки со сгоревшей хашламой.
В соснах завыл магнитофон, волной поднялся шум и смех, потом волна осела, и замелькали в электрических лучах светлые платья, майки и рубашки.
— Спасибо, очень вкусно, — сказала рыжая, макая хлеб в горелый жир.
— Болит? — спросила у нее Карина.
Та промолчала; за нее ответил рыжий:
— Еще бы!
— Пройдет, — утешила Карина.
— Должно пройти, — сказал пилот.
— И я так думаю, — сказал Стремухин.
«Ну а на небе тучи! Да, тучи! Да, тучи! — неслось из сосен. — А тучи, как люди!»
— Сейчас запарятся и к нам на пляж повалят, — тоскливо говорил Карп. — Еще купаться голые полезут, я их знаю. Визгу и мусора не оберешься. Одна надежда на пароход. Он должен будет загудеть.
— А загудит? — спрашивал Стремухин.
— Не бойся, загудит, — с усмешкой отвечал Карп. — Не до утра же они его наняли.
«…как люди, они одиноки! И все-таки тучи! Да, тучи! Да, тучи! Да, тучи!..»
В ближайших к пляжу соснах раздался хруст веток.
Женщина в шортах и футболке вышла из леса. Ни на кого не поглядев, нетвердым шагом направилась к берегу. Села на корточки, попробовала ладонью воду, затем стряхнула ее с ладони.
— Начинается, — сказал Карп.
Пилот крикнул:
— Вас не Сусанной Николаевной зовут?
— Нет, — отозвалась женщина. — Я не из них. Я просто так гуляю.
— Одной гулять нехорошо, — сказал Стремухин.
Карп подхватил:
— Да, что одной гулять? Идите к нам.
— Если я вам не помешаю, — подумав, отозвалась Александра.
Как только разошлись при виде «ПАЗа» и разбежались кто куда, она себе сказала: ни через час, ни через два, больше нигде и никогда с этими липовыми одноклассниками она встречаться не намерена. И все ж устроилась у пристани в кустах, дабы дождаться, когда минет час, и после точно убедиться, что «одноклассники» уплыли без нее и что она теперь от них свободна.
Пристань была пуста. Старенький пароход стоял на рейде возле входа в заводь; вдоль его палуб и бортов были развешены рекламные щиты: «Отдых на воде», «Банкеты, свадьбы, юбилеи», «Незабываемое путешествие с друзьями». На верхней палубе, облокотившись о рекламный щит, стоял матрос и, запрокинув голову, пил из чайника. Потом долго и громко полоскал горло.