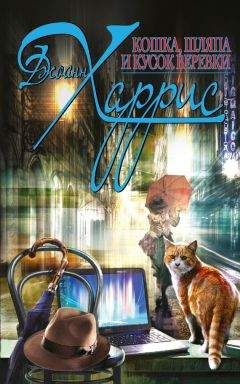И все равно, по-моему, тон у него был какой-то противный. Понимаете, у него улыбались только губы, а глаза оставались холодными; примерно так улыбается Шанталь, рассказывая подружкам о своем новом навороченном компьютере, или о новых шмотках, или о новых туфлях, или о браслете, купленном у «Тиффани», когда я стою рядом и все это слышу…
А у Ру был такой вид, словно его ударили.
— Послушайте, — сказал он, когда Тьерри заткнулся, — мне надо идти. Я ведь просто на минутку заглянул, хотел посмотреть, как вы тут. Просто мимо проходил…
«Врешь ты все, — подумала я. — Ты даже ботинки вычистил».
— А где ты живешь? — спросила я у него, и он ответил:
— На судне.
Ну что ж, это хотя бы похоже на правду. Суда он всегда любил. Я хорошо помню его плавучий дом, который сожгли в Ланскне. И помню, какое лицо было у Ру, когда это случилось; такое выражение лица бывает у человека, который очень много сил положил на то, что ему действительно дорого, а какой-то гад взял да и отнял у него все это.
— А где оно? — опять спросила я.
— На реке, — ответил Ру.
— Да ладно!.. — сказала я таким тоном, что это должно было бы заставить его рассмеяться.
Но он не рассмеялся, и я вдруг поняла, что, придя домой, даже не поцеловала его, даже не обняла после столь долгой разлуки, и от этого мне стало совсем не по себе. Но теперь было уже слишком поздно, и если бы я это сделала, он догадался бы, что я только сейчас об этом вспомнила и на самом деле никакого особого желания целовать его у меня нет.
Так что обнимать его я не стала, а просто взяла за руку. И почувствовала, какая она мозолистая, загрубевшая от работы.
По-моему, он немного удивился, но посмотрел на меня с улыбкой.
— Мне бы очень хотелось твое судно увидеть, — сказала я.
— Может, еще и увидишь.
— Оно такое же чудесное, как и то?
— Это уж ты сама решишь.
— Когда решу?
Он только плечами пожал.
Мама посмотрела на меня так, как всегда смотрит, если я ее раздражаю своим поведением, но ей просто не хочется говорить об этом вслух при людях.
— Ты извини, Ру, — сказала она ему. — Но если бы ты хоть позвонил… Я никак не ожидала…
— Я написал, — сказал он. — Я послал открытку.
— Я ее не получила.
— Ах вот как…
Он наверняка ей не поверил. И я видела: она ему тоже не верит. Ру совершенно не способен писать письма. Хуже нет — с ним переписываться. Он соберется написать, да так и не напишет. И по телефону он тоже не любит говорить. А вместо писем посылает в почтовых конвертах разные мелочи — подвеску на шнурке в виде дубового листка, вырезанного из дерева, полосатый камешек с берега моря, а иногда пришлет какую-нибудь книгу — с крохотной сопроводительной запиской или, что случается гораздо чаще, вообще без единого слова.
Он снова взглянул на Тьерри и повторил:
— Мне надо идти.
Ну да, конечно. Словно ему действительно это надо. Это ему-то! Ведь он всегда делает только то, что хочет, и никому никогда не позволяет указывать, что ему надо или не надо делать.
— Я еще вернусь.
«Да врешь ты все!»
Я вдруг так на него рассердилась, что у меня чуть не вырвалось: «Зачем же ты вообще тогда возвращался? Стоило ли беспокоиться?»
Я, в общем, все-таки произнесла эти слова, только про себя. Но так же сердито, как в тот день, когда я впервые разговаривала с Зози у дверей нашей chocolaterie.
И еще прибавила: «Трус, ты же просто хочешь от нас сбежать!»
И Зози меня услышала. И с пониманием на меня посмотрела. А Ру ничего не понял, он лишь глубже засунул руки в карманы джинсов и даже рукой не махнул на прощание; вышел за дверь и, не оборачиваясь, устремился прочь. Тьерри сразу бросился за ним — точно пес по следу незваного гостя. Вряд ли, конечно, Тьерри стал бы с ним драться, но при одной мысли об этом я чуть не расплакалась.
Мама хотела тоже пойти за ними, но Зози ее остановила.
— Лучше я пойду, — сказала она. — Не волнуйся, ничего с ними не случится. А ты побудь пока с Анни и Розетт.
И она быстро выбежала на темную улицу.
— Ступайте наверх, Анук, — сказала мне мама— Я тоже скоро приду.
Мы послушно поднялись наверх и стали ждать. Розетт вскоре уснула, потом вернулась Зози, и через несколько минут после ее возвращения мама поднялась к нам, стараясь ступать как можно тише, чтобы нас не потревожить. А потом заснула и я, но без конца просыпалась; меня будило потрескивание половых досок в маминой комнате, и я понимала: она не спит, а ходит по комнате или стоит у окна в темноте, прислушиваясь к вою ветра и надеясь, что, может быть, этот ветер — в кои-то веки! — оставит нас в покое.
2 декабря, воскресенье
Вчера вечером зажглись рождественские огни. Теперь весь наш quartier иллюминирован, лампочки не цветные, а простые и горят над городом, точно звездный купол. На площади Тертр, где всегда размещаются наши художники, воссоздали традиционную рождественскую сценку — вертеп: улыбающийся новорожденный Христос в колыбельке среди снопов соломы, в колыбель заглядывают его мать и отец, а рядом стоят волхвы со своими дарами. Розетт от этого вертепа просто в восторге и все время просит меня снова сводить ее туда.
«Ребенок, — показывает она мне на пальцах. — Пойдем посмотрим на ребеночка». Она уже два раза ходила туда с Нико, один раз с Алисой, бесчисленное множество раз с Зози, Жаном-Луи и Пополем, ну и, разумеется, с Анук. Она, похоже, восторгается вертепом не меньше Розетт и без конца рассказывает ей историю о том, что эта малышка (в версии Анук дитя женского пола) родилась прямо в хлеву, поскольку была страшная метель, а потом, чтобы посмотреть на нее, туда пришли разные животные и три мага-мудреца, и даже одна из звезд остановилась в небесах, чтобы взглянуть на чудесную девочку…
— Потому что она была особенная, не такая, как все, — поясняет Анук, к полному восхищению Розетт. — Ни на кого не похожая, как ты, например, и очень скоро у тебя тоже день рождения…
Пришествие. Приключение. По сути, оба этих слова предполагают некое необычайное событие. Я никогда раньше не задумывалась над их сходством, никогда не отмечала христианских праздников, никогда не постилась, никогда не каялась и не исповедовалась.
Ну, почти никогда.
Но когда Анук была маленькой, мы всегда праздновали Святки: с наступлением сумерек зажигали огоньки, плели венки из падуба и омелы, пили сидр со специями, устраивали пирушки для друзей, ели горячие, с пылу с жару, каштаны, жарившиеся тут же на решетке.
А потом родилась Розетт, и все снова переменилось. Исчезли венки из омелы, свечи и ладан. Теперь мы ходим в церковь и покупаем больше подарков, чем можем себе позволить, и кладем их под елку из пластмассы, и смотрим телевизор, и беспокоимся, достаточно ли хорош будет у нас праздничный стол. Рождественские огоньки, возможно, издали и кажутся звездами, но вблизи каждому ясно, что все это ерунда и тяжелые гирлянды лампочек удерживаются над узкими улочками только с помощью проводов. И никакого волшебства… «Но разве не этого ты хотела, Вианн?» — слышу я в ушах чей-то суховатый голос, и он так похож на голос моей матери, и на голос Ру, а теперь еще немного и на голос Зози, ибо она напоминает мне ту Вианн, какой я была когда-то. И ее терпение я воспринимаю уже почти как упрек.
Но наступающий год будет не таким, как предыдущие. Тьерри любит, чтобы все было как полагается. Церковь, гусь, шоколадное полено — настоящий праздник; и мы будем праздновать не только это Рождество, но и все прочие знаменательные дни, которые уже провели вместе и которые нам еще только предстоит провести…
И разумеется, никакого волшебства. Что ж, разве это так плохо? Покой, безопасность, дружба… и любовь. Разве этого не достаточно? Разве у нас другой путь? Я выросла на народных сказках, так почему же мне так трудно поверить в счастливый конец? В то, что можно жить долго и счастливо? И почему мне до сих пор снится, что я иду следом за дудочником-крысоловом, если прекрасно знаю, куда он меня ведет?
Я велела Анук и Розетт ложиться спать, а сама бросилась вдогонку за Ру и Тьерри. Я отстала от них совсем чуть-чуть, задержавшись дома минуты на три, от силы на пять, но, едва оказавшись в уличной толпе, сразу поняла, что Ру, конечно, уже успел исчезнуть в сутолоке Монмартра. И все же, пытаясь его догнать, я поспешила в сторону Сакре-Кёр — и почти сразу среди многочисленных туристов и зевак заметила знакомый силуэт. Тьерри быстро шел к площади Далиды, решительно засунув руки в карманы и выставив вперед подбородок, точно готовый к драке петух.
Я остановилась и нырнула налево, на мощенную булыжником улочку, что ведет наверх, к площади Тертр. Но и там Ру видно не было. Исчез. Ну да, с какой, собственно, стати ему оставаться? И все же я бродила по выходящим на площадь улочкам, вся дрожа (я забыла надеть пальто), прислушиваясь к звукам ночного Монмартpa — музыке, доносившейся из клубов, расположенных у подножия Холма, смеху, шагам, детским голосам, слышавшимся у вертепа на той стороне площади, пению саксофона, на котором играл бродячий музыкант, обрывкам разговоров, приносимых ветром…