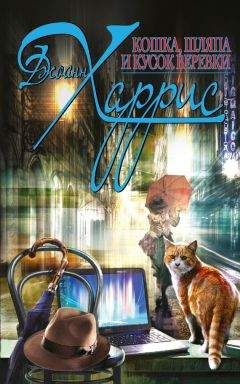Именно его неподвижная фигура в итоге и привлекла мое внимание. Парижане похожи на косяки рыб — если остановятся хоть на мгновение, то сразу умрут. А он просто стоял без движения, почти не заметный в ярко-красных вспышках неона в витрине кафе. Молча наблюдал за толпой и словно чего-то ждал. Ждал меня…
Я бегом бросилась к нему через площадь. Крепко обхватила его руками и на секунду испугалась, что он на мое объятие не ответит. Я почувствовала, как напряглось его тело, заметила, как пролегла между бровями знакомая морщинка, — и в этом резком свете он вдруг действительно показался мне незнакомцем.
А потом он тоже обнял меня — сперва, как мне показалось, нерешительно, но через несколько мгновений с такой яростью прижал к себе, что последовавший за этим совет прозвучал в его устах по меньшей мере неуместно.
— Тебе не следовало приходить сюда, Вианн, — сказал он.
Чуть пониже его левого плеча есть такая ямка, куда очень удобно утыкаться лбом. Я отыскала это местечко и прильнула лицом к его груди. От него пахло ночью, машинным маслом, кедровым деревом, пачулями, шоколадом, дегтем и шерстью… и еще чем-то простым, но неповторимым, свойственным только ему одному, столь же неуловимым и знакомым, как постоянно возвращающийся сон.
— Я знаю, — сказала я.
И все же не могла выпустить его из объятий. Чтобы он ушел, было бы достаточно одного слова, одного предупреждения или просто нахмуренных бровей. «Я теперь с Тьерри. А ты мне только мешаешь». Предполагать какой-то иной исход из данной ситуации было просто бессмысленно и очень больно; я понимала, что все подобные идеи с самого начала обречены на провал. И все же…
— Я так рад видеть тебя, Вианн.
В его голосе, хоть и звучавшем мягко, как ни странно, слышалось некое обвинение.
Я улыбнулась.
— И я рада тебя видеть. Но почему — только теперь? Ведь столько лет прошло!
Ру пожал плечами — этот жест у него означает многое. Равнодушие, презрение, неведение, даже шутку. Но этим движением он словно вытряхнул мою голову из ее уютной «колыбели», и я сразу вновь вернулась на землю.
— А если ты узнаешь причину, это будет иметь какое-то значение?
— Возможно.
Он снова пожал плечами и сказал:
— Не вижу смысла. Ты здесь счастлива?
— Конечно.
Ведь именно этого я всегда и хотела. Свой магазин, свой дом, школу, куда ходят мои дети. И чтобы каждый день, глядя из окна, я видела одно и то же. И Тьерри…
— Просто я никогда не представлял себе тебя — здесь. Я думал, что это всего лишь вопрос времени. Что однажды ты…
— Что? Увижу суть? Сдамся? Продолжу эту бродячую жизнь — один день здесь, другой там; сегодня одно место, завтра другое: ведь именно так вы и живете, ты и прочие речные крысы?
— Уж лучше быть крысой, чем птицей в клетке.
Он явно начинает злиться, подумала я. Голос все еще звучал мягко, но южный акцент слышался в нем куда более отчетливо, как всегда бывало и раньше, если он выходил из себя. И я с изумлением поняла, что даже, пожалуй, хочу его разозлить, заставить поссориться со мной, чтобы у нас обоих не осталось ни малейшего шанса на примирение. Тяжело так думать, но, скорее всего, именно это и пришло мне в голову. И он, похоже, это почувствовал, потому что посмотрел на меня, улыбнулся и спросил:
— А что, если я скажу, что совершенно переменился?
— Да ничуть ты не переменился.
— Откуда ты знаешь?
«Ох, да знаю я, знаю». И мне так больно видеть его точно таким же, как прежде. Но я-то переменилась! Меня переменили мои дети. И я больше не могу поступать так, как хочется мне самой. А хочется мне…
— Ру, — сказала я. — Я действительно ужасно тебе рада. И это очень хорошо, что ты приехал. Но приехал ты слишком поздно. Я теперь с Тьерри. И он, правда, очень хороший человек, если узнать его поближе. И он так много сделал для Анук и Розетт…
— А ты его любишь?
— Ру, пожалуйста…
— Я спросил: ты его любишь?
— Ну конечно люблю.
И снова он пожал плечами, отчетливо выразив этим свое презрение.
— Поздравляю, Вианн, — только и сказал он на прощание.
И я его отпустила. А что мне еще было делать? Он вернется, думала я. Он должен вернуться. Но пока что он не вернулся, он не оставил ни адреса, ни номера телефона — хотя я бы очень удивилась, если бы у него был телефон. Насколько я знаю, у него даже телевизора никогда не было: он предпочитал любоваться небом и утверждал, что это зрелище ему никогда не надоедает и никогда не повторяется.
Интересно, где он живет сейчас? На каком-то судне — так он сказал Анук. Наверное, эта какая-нибудь баржа, думала я, которая, скорее всего, поднимается с грузом вверх по Сене. А может, очередной плавучий дом, если ему удалось найти что-нибудь подешевле. Наверное, что-нибудь допотопное, неповоротливое, и теперь в перерывах между временными работами он с ним возится, латает, делает его своим. Ру к таким посудинам относится с бесконечным терпением. А вот к людям…
— А Ру сегодня придет, мам? — спросила Анук после завтрака.
Она дождалась утра, чтобы задать этот вопрос. С другой стороны, Анук редко говорит не подумав; она долго размышляет, прикидывает, а уж потом говорит: неторопливо, почти торжественно и очень осторожно — так в телевизионных фильмах говорят сыщики, которым только что удалось докопаться до истины.
— Не знаю, — ответила я. — Это уж от него зависит.
— А ты бы хотела, чтобы он вернулся?
Настойчивость всегда была одной из наиболее постоянных черт моей дочери.
Я вздохнула.
— Трудно сказать.
— Почему? Ты что, больше его не любишь?
Я услышала в ее голосе вызов.
— Нет, Анук. Дело не в этом.
— А в чем же?
Я чуть не рассмеялась. В ее устах все звучит так просто, словно наши жизни — вовсе и не колода карт, где приходится взвешивать каждое решение, каждый шаг, противопоставляя его множеству иных решений, иных шагов, предпринятых случайно, необоснованно, изменяющихся буквально при каждом вздохе…
— Послушай, Нану. Я знаю, ты любишь Ру. И я тоже. Я очень его люблю. Но ты должна помнить… — Я помолчала, подыскивая подходящие слова. — Ру всегда поступает так, как хочет он сам, всегда. И он никогда подолгу не остается на одном месте. Это, может, и неплохо, потому что он один. Но нас трое, и нам нужно нечто большее.
— Если бы мы жили с Ру, он не был бы один, — разумно возразила Анук.
Я все-таки рассмеялась, хотя на душе у меня кошки скребли. Ру и Анук, как ни странно, очень похожи. Оба мыслят некими абсолютами. Оба упрямы, скрытны, обидчивы и пугающе злопамятны.
Я попыталась объяснить:
— Ему нравится жить одному. Он круглый год проводит на реке, спит под открытым небом, ему в доме попросту неуютно. Мы так жить не могли бы, Нану. Он это понимает. И ты тоже.
Она сумрачно, оценивающе на меня посмотрела.
— Тьерри его ненавидит. Я точно знаю.
Что ж, после вчерашнего вряд ли кто-то усомнился бы в этом. Шумная приветливость Тьерри была сродни приветливости кровожадного тролля; его прямо-таки переполняли откровенное презрение и ревность. Но ведь на самом деле Тьерри совсем не такой, уговаривала я себя. Его наверняка просто что-то очень расстроило, огорчило. Может, то маленькое происшествие в «Розовом доме»?
— Но Тьерри его толком и не знает, Ну.
— Тьерри никого из нас толком не знает!
И Анук снова пошла к себе, держа в каждой руке по круассану, и, судя по выражению ее лица, было ясно: продолжения этой дискуссии не миновать. А я прошла на кухню, приготовила горячий шоколад, села за стол и стала смотреть, как напиток в чашке постепенно остывает. В голове моей бродили мысли о том, каким бывает февраль в Ланскне — с цветущей мимозой по берегам Танн, с речными цыганами на длинных узких суденышках, таких многочисленных и плывущих так близко друг от друга, что по ним, кажется, можно перейти на тот берег…
И среди них один-единственный человек сидит в одиночестве, сам по себе, и смотрит на реку с крыши своего плавучего дома. Не так уж сильно он и отличается от прочих бродяг, и все же я отчего-то сразу его выделила. От некоторых людей явственно исходит свет. Вот и от него тоже. И даже теперь, когда прошло столько лет, я чувствую, что меня снова тянет к этому свету. Если бы не Анук и Розетт, я вчера пошла бы за ним. В конце концов, есть вещи и похуже нищеты. Но я должна дать своим детям нечто большее. Именно поэтому я здесь. И я не могу снова стать Вианн Роше и вернуться в Ланскне. Даже ради Ру. Даже ради себя самой.
Я так и сидела над чашкой с остывшим шоколадом, когда вошел Тьерри. Было уже девять часов, но все еще почти темно; за окнами слышался приглушенный гул транспорта и колокольный звон, доносившийся из маленькой церквушки, что на площади Тертр.
Тьерри молча сел напротив, его пальто пахло сигарным дымом и парижским туманом. Он помолчал еще с полминуты, потом протянул руку и, накрыв ею мою ладонь, сказал: