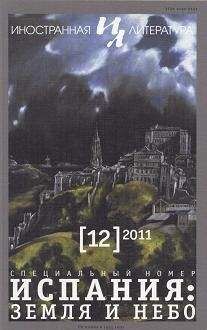Я зашел в кафе и взял стакан вина, а потом бродил по улочкам вокруг погреба того зализанного бармена. После вернулся в центр и в другом баре выпил еще стакан. Постепенно я стал чувствовать себя виноватым и всеми покинутым, а в голове пылал жар и крутились разные мысли. От всего этого у меня сделалось головокружение и какая-то вялость в желудке. Вот ведь странно, Дависито, все мои чувства отдаются в живот. Видно, это мое слабое место, запоры. В общем, сам того не желая я оказался в банке и заметил у всех на лицах этакую неясную надежду на поразвлечься. Но я прошагал напрямик в кабинет к инспектору и рассказал ему про Ауриту, и про ганглий, и про температуру, и про ребенка, которого мы ждали, и про тревоги, напавшие на меня из-за всего этого, схватил его за руку и поднес к моей шее, а он сказал: «Да-да, действительно, есть какое-то образование»; а потом поднес ко лбу, он потрогал и сказал, смешавшись: «Не исключена небольшая температура». Я заметил: «А то и большая, сеньор инспектор» — и напомнил про свои десять лет службы без единого прогула и всего с тремя опозданиями, а он размякал и размякал и, наконец, сказал:
— Ну, хорошо, Ленуар, в первый раз прощается, но чтоб больше такого не было.
Я поблагодарил и вышел из кабинета, и Санчес спросил: «Ну что, Ленуар?» Я ответил: «Да ничего». Санчес смерил меня сочувственным взглядом и сказал: «Ну ты гусь».
Когда доктор сказал, что слышит сердце ребенка, я почувствовал биение бессмертия в крови. Наверное, от волнения из-за предстоящего отцовства. Я спросил у Ауриты, пинается ли он; Аурита сказала — не пинается. Доктор сказал, что еще и половина срока не прошла. Аурита спросила, а не двойня ли там, а он спросил, с чего она так решила. Аурита залилась румянцем и пожала плечами. А мне вдруг будто в шутку подумалось, что когда-то мы с Робинетом сидели в одном животе, и тут же я покрылся испариной, посерьезнел и сообразил: «А ведь я Робинета раньше видел в каком-то тесном и закрытом месте, вот как в животе». Это была просто догадка, Дависито, но мне опять показалось, что вернее ничего и быть не может. Врач прописал Аурите витамины и колоть кальций.
Санчес меня предостерег, когда я ему рассказал: «Витаминов не давай, пока не родит. Лучше уж пусть малец снаружи вымахает, чем в животе». По правде говоря, он убедительно рассуждал, и я дома так Аурите и сказал. Она спросила: «Санчес, что, — врач?» — «Нет, сама знаешь», — отвечал я. «Зато любит соваться куда не просят, так ведь?» Я напрягся, но набрался терпения и сказал, пусть делает что хочет, а она мне в пику возразила, что не своему капризу потакает, а делает что доктор велел.
Ладили мы тогда не очень, Дависито, и я знал, что причина не в Аурите и не во мне, а в Робинете. Из-за этого наваждения я такое выдумывал, что аж совестно, даже что мы с Робинетом встречались в прошлой жизни, неизвестно — как, каким образом и где, но, так-то разобраться, бред все это, я же христианин, Дависито, и не верю во всякое вранье насчет переселения душ, реинкарнации и прочего. Такое вертелось у меня на уме от отчаяния, но на самом деле не особо я в это верил. Зато стал сомневаться в своем здравом рассудке. Иногда у меня так стучало в висках, что стук отдавался в подушку, как удары кнута, и я пугался и вскакивал, ища за что бы твердое ухватиться. А вдобавок состояние мое ухудшалось. Я уже не мог избавиться от Робинета. Если бы у меня тогда получилось забыть его, Дависито, клянусь, я бы так и сделал. Но Робинет, как вино пьянице, стал мне необходим.
С вином ведь как: пока пропускаешь пару стаканов, чтобы взбодриться, оно тебе на пользу и на радость, все идет хорошо, и ты любишь вино, потому что можешь и не пить, если не захочешь, и вдруг ты уже пристрастился, вино тебя держит, ты как больной и уже не то чтобы хочешь, а тебе нужно выпить, а соберешься бросить — не сможешь, потому что уже вляпался в него по уши, и оно влечет тебя с неодолимой силой, ты бы и заплатить рад, лишь бы не чувствовать этой тяги, с которой не справиться, лишь бы не чувствовать, потому что знаешь: если уж почувствовал — пропал навсегда. Так я и гонялся за Робинетом, Дависито, как пьяница — за вином. Я часто думал, что у меня мозги расплавятся, если буду и дальше так ломать голову, но все ломал и ломал и все ничего не мог добиться, только разбирал всю свою жизнь на кусочки от самого первого сознательного воспоминания до того дня, когда столкнулся с Робинетом в баре.
Я совсем ослаб, градусник нет-нет да выдавал тридцать восемь, по вечерам веки тяжелели и шершавели, а глаза сильно чесались. Наверное, так было из-за жара, Дависито, хотя мне тогда сдавалось — из-за того, что Аурита меня не понимала.
Однажды я забыл купить ей ленточек, чтобы украшать детские одежки, и хотел было заранее ее успокоить:
— Извини, — сказал я, — я забыл.
— На что ты вообще годишься? — заплакала она.
— Ну-ну, Аурита, не говори ерунды. Это же пустяки. Завтра куплю, и дело с концом.
— Ах, вот оно как? — отвечала она. — По-твоему, лучше целый день где-то шляться, чем один-единственный раз жену порадовать.
Я примирительно сказал:
— Успокойся, пожалуйста, Аурита; а то не дом стал, а ад кромешный.
А она разозлилась и сказала:
— Да, и кто же здесь черт?
Это все ганглий виноват, Дависито. В самый неподходящий момент сильно кольнуло. Меня вывел из себя сам узелок, а еще — что врач прописал мне спокойствие как лучшее лечение. Успокоила меня тяжесть стакана в ладони, она заполнила мне руку, по ней пробежали мурашки, и я с силой и наслаждением запустил стаканом в стену. От моего замаха и звона бьющегося стекла Аурита застыла на месте. Но длилось это всего миг, и я тут же пожалел и охотно повернул бы все вспять, мне казалось, я перегнул палку. На меня напал какой-то панический страх, и свело живот, когда я увидал, что Аурита убегает по коридору и, как заведенная, повторяет «зверь, зверь, зверь».
Вот со мной всегда так, Дависито. Кто знает, может, шарахни я о стену еще один стакан или даже кувшин или супницу — и насадил бы в доме свою железную волю. Но выходит, что через минуту после робкой попытки настоять на своем, меня уже гложет смутное раскаяние, и я говорю себе, что Аурита права, сама по себе жизнь с таким подарком, как я, — мука мученическая. И в конце концов я сдаюсь и кое-как подлатываю нашу семейную гармонию и склоняю голову, и выходит, я, вместо того чтобы победить, проиграл, и положение мое расшатывается.
Я утихомирил Ауриту, и мы еще раз обновили свадебную рубашку, хоть на сей раз я и заметил, что думаю не о том, да и прощения попросил не совсем от чистого сердца, и бунтарские мысли еще живы во мне, а поступаю я так просто из отвращения к ссорам, крику и беспорядку.
И все же это странное мое поведение сбивало меня с толку, я говорил себе в глубине души: «К чему себя обманывать? Это безумие так подкрадывается». И на меня наваливался глубокий леденящий ужас, потому что ничего на свете, Дависито, я не боюсь так сильно, как лишиться рассудка. А я почти физически чувствовал, что рассудок от меня то уходит, то возвращается, и в последнее время, по правде говоря, все больше уходит, чем возвращается. Я спрашивал себя: «Эго из-за Робинета?» И отвечал: «Да чтоб ему пусто было». Но я плевать хотел, пусто ему будет или не пусто, а на самом деле мечтал только о том, чтобы его разыскать.
Однажды утром мне кое-что пришло в голову, и я отправился во французское консульство, и у блондинистого малого узнал, как попасть к консулу, и, хоть консул и заставил себя ждать, я не особо возражал — уж больно было уютно сидеть на диване в приемной. Консул оказался человеком в толстых очках и с огромным лбом, а концы слов он приглушал, как мелодию. Когда я спросил про Робинета, он нажал на звоночек, и явился клерк, выслушал указания, ушел и вернулся с книгой. Дальше у меня спрашивали возраст Робинета, дату въезда в Испанию, род занятий, прежнее местожительство во Франции, а я только и повторял: «Не знаю, не знаю». Наконец, консул сказал: «Этот гражданин в консульстве не зарегистрирован».
Я очень огорчился и вечером, после получки в конторе, пошел к тому зализанному бармену и при виде его кисло-сладкой улыбочки почувствовал себя ничтожеством. Но все равно твердо решил все из него вытянуть. Спросил как ни в чем не бывало:
— А как там Робинет?
— Нет его, — отвечал он. — Уехал.
— Куда?
— Туда, откуда вам его не достать. Вы это хотели знать?
— Вернулся на родину?
— Вот именно.
Когда я вышел оттуда, Дависито, новое чувство переполняло меня, и я чуял, что приблизился к Робинету, пусть он и отдалился, и, вернувшись домой и усевшись в свое любимое кресло, я вдруг испытал нечто удивительное: я смотрел на вид По, написанный папой, и углядел в картине что-то необычное, живое и смутно знакомое. И так я сидел, уйдя в себя, и внезапно, будто кто-то нашептал мне, «увидел», что там-то и есть Робинет и там-то как раз он влез в мою историю, и Робинет с картиной слились в единое целое. Увидел так ясно, Дависито, как вижу сейчас линейки на листе бумаги. Мой ум в лихорадочном бреду тщился прорваться к непостижимому, к тому, что так неожиданно пожелала рассказать мне эта картина. Как будто, Дависито, я угадал еще одну букву из последнего слова в кроссворде.