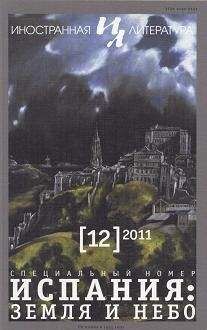Я, должно быть, побледнел или что-то в этом роде, потому что Аурита испуганно поднялась, пошла ко мне, упала на колени и закричала: «Ради всего святого, прекрати косить, прекрати так косить, дурак, я же пугаюсь!» Я же, Дависито, по правде говоря, и не догадывался, что кошу, она мне глаза открыла, а чувствовал я, что куда-то уношусь, словно бы плыву среди облаков или чего-то похожего. Но и в этом полубессознательном парении я все еще связывал Робинета с картиной, проводя между ними все объясняющие параллели.
Боже правый! Как скверно стало мне жить после этого, Дависито. Я весь обратился в свою идею-фикс: Робинета. Его мяклое, раскисшее лицо все время стояло у меня перед глазами. Аурита сняла со стены в кабинете пейзаж По, потому что я вглядывался в него до изнеможения. Температура с каждым днем поднималась, голова была чугунная, как от вина или бессонницы. Я просиживал часами в своем уголке на работе, ничего не делая. Хорошо еще Санчес старался как-то меня взбодрить и помочь, и вялости моей почти никто не замечал.
Однажды к вечеру у меня случился вроде как обморок, я завалился назад и чуть не расшиб голову о батарею. Санчес меня подхватил и сказал: «Господи Боже, Ленуар! Ты не в себе, что ли?» Я не ответил, но и в самом деле был слегка не в себе, Дависито, а вечером, по дороге домой, уже довольно близко от дома, увидал, как по улице бежит бегом коренастый мужик, и припустил за ним, вопя: «Эй, Робинет! Постой!», а догнав, понял, что это никакой не Робинет и даже не похож ни капельки, а сам он такой же бледный, как я, и тут он мне сказал: «Моя жена помирает, у нее кровотечение». Я вместе с ним побежал за врачом, потому что принял к сердцу его беду, как свою собственную, а потом мы все побежали к нему домой. Врач сказал: «Отслойка плаценты».
И его жену повезли на «скорой» в больницу, а я, оставшись один, подумал, что все в мире — гадость и боль, и зашел в бар, спросил вина и еще вина и вдруг вспомнил о своем ребенке, который должен был родиться, и принялся рыдать, уронив голову на стойку, и твердить: «Горемычный у меня сын родится».
Народ надо мной потешался и не верил, хотя я говорил от всего сердца и душа моя рвалась на куски. Потом мне на ум пришел папа, Дависито, и тут уж я почувствовал себя виноватым со всех сторон, и перед отцом и перед сыном, и вдруг подумал, что сам гублю все, к чему прикасаюсь, сам я — причина и корень всяческого зла.
Наутро к нам зашел врач и сказал: «Постельный режим, друг мой; дела у вас не очень». Прописал строгую-престрогую диету и сообщил, что, если узелок сам по себе не рассосется, придется замещать его содержимое преобразующими жидкостями. «Это как?» — спросил я. Он ответил: «Сперва проколем — откачаем, потом проколем — впрыснем. — Я не нашелся что сказать, а он добавил: — Две недели не вставать».
Трудные были времена, Дависито; пока светило солнце и с улицы доносился шум, я засыпал легко и видел спокойные, здоровые сны, зато по ночам лежал без сна, непрестанно думая о строящемся напротив доме, который был виден через открытый балкон и медленно-медленно менял цвет с глухого черного на серый, лиловатый и рыжеватый. Как-то раз меня навестил Санчес, и я сказал ему:
— Сейчас этот дом почернеет, потом посереет, потом станет лиловым, а потом — рыжим. Вот тогда я и спать смогу.
Санчес воззрился на меня с каким-то отстраненным сочувствием.
— Этот дом все время оранжевый, Ленуар, — сказал он. — Ты привыкни к этой мысли. Цвета он меняет, оттого что свет по-разному падает.
Я призадумался, а потом спросил:
— Ты, поди, думаешь, что я с ума сбрендил, ведь так, Энрике?
— Брось ты, — отвечал он. — Какая разница, что я думаю? — И дружески похлопал меня по плечу.
Если я засыпал ночью, к снам про Робинета примешивались кошмары про детей и ганглии, будто бы у меня по всему телу высыпают такие же узелки, а потом они все начинают лопаться, как воздушные шарики, а из каждого шарика появляется малюсенький младенчик и сучит ножками, а потом такие узелки с крохотными сосочками высыпают у Ауриты, и младенцы ползут по кровати и принимаются сосать каждый из своего узелка, и Аурита истаивает так быстро, что врач вынужден ей срочно вводить жидкость от обезвоживания. Младенцы, как котята, жадно присасываются к матери, а меня от них передергивает и мутит, и ворочаться нужно с превеликой осторожностью, чтобы никого из них не раздавить. Я просыпался весь в поту, со стеснением в груди. Как-то утром я сказал врачу, который пришел по страховке:
— Моя жена беременна. Как думаете, может быть двойня?
— С чего бы это быть двойне?
— Ну, бывают же двойни?
Он не послушал. Прощупал ганглий и сказал:
— Идет на поправку. Можно вставать, но никаких нагрузок. Есть возможность — смените обстановку, пойдет на пользу.
Я очень хотел встать, Дависито, потому что мне не терпелось толком пересмотреть родительское барахло, хранящееся у нас наверху, в очень приличной кладовке, за которую и арен-ду-то платить почти не приходится. Времени у меня всегда мало, а захворал я тогда впервые за пятнадцать лет, вот и выходило, что прежде я никогда как следует не разбирал все эти вещи. Признаюсь, руки у меня тряслись, когда я по порядку рассматривал папины наброски и картины и мамины бухгалтерские книги и записи.
Перевернул я одну картину и присел на старую корзинку, Дависито, чтобы не рухнуть на пол. На ней был Робинет! И никто иной, Дависито, — со своими пустыми глазами и повисшей нижней губой и оттопыренными ушами. Без всяких сомнений! На меня нашло такое волнение, что я пять минут только и делал что смотрел, как трясутся у меня руки, словно листья. Потом я стал судорожно, жадно перелопачивать все картины в поисках еще одного подтверждения, но только больше разволновался, поднял пылищу и совсем запутался. Потом снова взял портрет и осторожно платком стер пыль. На нем стояла дата времен По и папина подпись. Я смотрел и улыбался, как будто, наконец-то, смог изловить Робинета. Он тоже смотрел на меня нахально своими водянистыми зрачками, и я вновь подумал, что это от папы передалось мне ощущение Робинета и знание о нем, ведь из По я помнил только заброшенные сады да белок, скачущих в кронах огромных деревьев.
Я взял портрет под мышку, спустился домой и сказал Аурите:
— Я наверху нашел портрет Робинета.
Я заметил, что это ее задело, что это ей действует на нервы, будто какой-то суеверный страх.
— Взгляни, — сказал я, показывая портрет, — странно, правда?
Впервые она вроде бы заинтересовалась, несколько раз подходила и отходила и бормотала: «В жизни его не видела. Никогда в жизни не видала этого типа». Я в две минуты все уже решил и объявил ей: «Мы на неделю едем во Францию. Врач велел мне сменить обстановку». — «Что?» — переспросила Аурита с воодушевлением. Я вспомнил слова зализанного бармена и сказал: «Робинет сейчас там». Аурита, все больше воодушевляясь, предложила: «Надо бы французский нам подучить, пока ты документы будешь делать». А я ответил: «И с таким прорвемся».
Потом оказалось, Дависито, что мы с Ауритой столкнулись с полным непониманием французов; я уже в поезде только и мог сказать что «Je ne comprend pas, monsieur»[1] или «Je ne comprend pas, madame» [2], а переехав границу, подумал: «Это все равно что искать иголку в стоге сена». Но у Ауриты глаза сияли незамутненной радостью, в ней вдруг проявилась туристическая повадка, и она иногда спрашивала: «Мы ведь туристы, правда?» Я отвечал «Еще бы!» и, не желая ее огорчать, помалкивал, что попросил две премии вперед.
Заговорив с соседями по купе, я как раз и понял, что язык — словно музыка и слова в песне, Дависито, и, хоть все слова тебе знакомы, ни на что они не годны, коли не знать музыки. И наоборот: Аурита, которая знала меньше, чем я, говорила лучше, потому что подстраивалась под ритм и под тон и верно в уме догадывалась, где одно слово кончается, а другое начинается. Ну, а мне если говорили, к примеру: «Mais on n’y peut rien…»[3], я не мог сообразить — это про дом говорят или про собаку, или вообще про что.
Что не помешало мне, как только я завидел из поезда старый замок Генриха IV с раскидистыми садами, различить белок из моих воспоминаний, и тогда словно тоска по внезапно оборванному детству разлилась у меня внутри. И тогда же я убедился, что По, как я и представлял себе, — город серый, окутанный серой дымкой, спокойный и тихий, словно покинутый всеми обитателями.
У меня был адрес пансиона, потому что я заранее написал тетушке Кандиде, и она же мне прислала адрес дома, где мы раньше жили. Поэтому, когда мы шагали по бульвару Пирене, я чувствовал себя спокойно, как будто все уже было предрешено. Мы брели медленно, любовались мансардами и не боялись, что о нас могут подумать. Останавливались на перекрестках и разбирали таблички с названиями улиц и на углу улицы КордеЛье спросили у какого-то старичка, как пройти на улицу Дюплаа, а он сказал: «Tout droit jusqu’à Saint Jacques. Une fois là, renseignez vous» [4]. Я покрепче ухватил Ауриту под руку и прошептал: «Я не понял». Она рассмеялась и сказала: «Все время прямо до Святого Иакова. А там посмотрим».