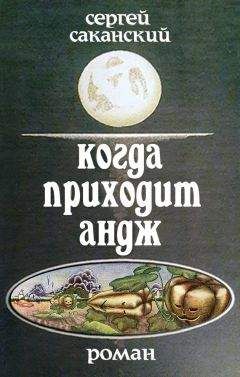— Кто там? — раздраженно отозвалась Анжела.
Стаканский повторил стук и его недовольно впустили.
— Я звал тебя, — вымолвил он.
— Когда?
— Там, — весело махнул он рукой, — на даче.
Анжела весьма натурально изобразила удивление и уставилась на него.
— Ну хорошо, — скучно вздохнула она, не желая продолжать игру. — Допустим, я действительно была у тебя на даче. Но зачем же так преследовать меня? Что — «я думал», «я хотел»? Заруби себе раз и навсегда на своем длинном носу: я никогда не буду с тобой. Садись, — сказала она примирительно, увидев, как он заморгал глазами. — Выпьем кофе. Недолго — я очень устала, — Анжела отворила шкаф, разыскивая чашки…
— Почему такие как ты думают, — говорила она, стоя к Стаканскому спиной, — что они могут рассчитывать на таких как я?
— Но Анжела! — вскричал он. — Вчера…
— Не было никакого вчера, слышишь? — прошипела она. — Это тебе опять приснилось.
Кофе поспело. Анжела ласково разлила по чашкам, Стаканский сделал слишком большой глоток и скорчился от боли. Анжела похлопала его по спине. Вдруг он увидел галстук и, раскрыв рот от ужаса, присмотрелся к нему.
— Это галстук отца, — сказал он. — Откуда он здесь?
— Это галстук Анджа, — возразила Анжела.
— Странно, — пробормотал Стаканский, — у отца есть такой же.
— Был, — вздохнула Анжела, — Видно, это и вправду галстук отца, и Андж попросту спер его, пока ты там ползал в нокауте. Он это любит.
Стаканский отыскал глазами свою серебряную рюмочку на полке, между свечой и метеорным камнем — «подарок жениха»…
— Какая гадость, — сказал он с досадой.
— Почему гадость? — невозмутимо возразила Анжела. — Каждый живет по-своему. Для кого гадость, а для кого мед.
— Коммунисты, — прошептал Стаканский. — Большевики проклятые. Быдло.
— Вот-вот, — сказала Анжела, переворачивая чашку для гадания. — Настучу на тебя в партком. Заберут тебя в армию, ты там повесишься на водопроводной трубе и перестанешь за мной бегать… Ну послушай, Андрюшенька, тошно же! Поверь, это совершенно безнадежно, абсолютно. Никогда — слышишь, как звучит этот убийственный анапест? Как стук колес уходящего поезда, душка. Ни-ког-да… Ах, смотри! — встрепенулась она. — Рыбка и киска. Значит, в ближайшие дни меня ожидает большая радость, какое-то приятное наслаждение… Ручеек. Дальняя дорога с любимым человеком. Н-ну. Дай Бог мне милого встретить, — поддразнила она.
— Тьфу на тебя, — тихо сказал Стаканский.
— Ага.
— Я тебя ненавижу.
— Это любопытно.
— Я тебя просто убить готов.
— Так, — Анжела уселась верхом на стуле, облокотясь на его ореховую спинку.
— Я презираю тебя. Ты мерзкая ничтожная тварь, красивая дрянь, ты и знать не хочешь, что кроме тебя на свете есть другие люди.
— Да-да, — подбодрила Анжела, когда он внезапно запнулся.
Стаканский почти уже плакал, он тускло сознавал, что сейчас падет на колени, омоет слезами ее гладкие ноги: вся жизнь моя, вся жизнь!
— Ты жалкая маленькая дура, мне скучно, паршиво с тобой, провались ты на месте вместе со своим монстром Анджем… Ты нечистоплотна, ты не умеешь мыться. Я нюхал сегодня твою постель. От тебя пахнет хуем.
Анжела наконец удовлетворенно кивнула, встала и распахнула дверь, застыв в насмешливом ожидании. Стаканский покорно вышел, похлопывая себя по коленкам. К счастью, никто не видел этой сцены. В дверях он замешкался и вдруг, неожиданно для самого себя, нежно погладил Анжелины побелевшие пальцы на рукоятке замка.
— С каким удовольствием, я бы все это переписала набело… — загадочно вздохнула она.
Дома отец с порога бросился к нему.
— Ты не видал мой галстук? — спросил он, пытливо заглядывая ему в глаза. Стаканский повел плечами и, шатаясь, пошел прямо на отца и, если бы тот вовремя не отскочил, он прошел бы сквозь него, как сквозь голограмму.
— Где же этот чертов галстук! — кричал отец в прихожей, почти в истерике.
Стаканский лежал на кровати вниз лицом, длинный, вонючий, в ботинках, в плаще… И так будет всегда, слышишь, — говорил внутри какой-то мерзкий баритон. — Ты даже не сможешь найти себе элементарную шлюху, которая бы успокоила тебя, ведь тебе именно сейчас нужно это… как его… спрятать в мягкое, в женское.
— Такой бордовый, в крапинку!
Отец хранил свои галстуки на вешалке в прихожей, и Андж вполне мог, намотав его на палец, по-хозяйски сунуть в карман.
— Это был мой любимый галстук, — старчески вздохнул отец и тихо поскребся в дверь, но, не услышав ответа, кряхтя, прошел к себе.
Стаканский заснул и проснулся. Неизвестно сколько прошло времени. Он вышел в коридор, чтобы раздеться и привести себя в порядок. Отец стоял перед зеркалом.
— Не так жалко галстука, как заколку, — сказал он. — Нечто вроде изящной змеи — скромная, но выразительная деталь. Деталь, друг мой, имеет наиважнейшее художественное значение… Смотри, вроде не так уж и плох, а? — он помахал в воздухе серым в полоску, прошлогодним своим галстуком, шутя примерил его в паху, поболтал между ног и значительно подмигнул.
Солнце все более распалялось, отражаясь в глазах прохожих женщин, с каждым днем он все чаще ловил этот насмешливый, на все готовый взгляд, с карнизов свисали длинные развратные сосульки, падая с твердым намерением убить, они звонко разлетались вдребезги, на время своей агонии мешаясь с битым стеклом улиц, которому повезло несколько больше — с точки зрения вечности; капли падали на нос, обжигая, запахи были новые, внятные, даже самые гнусные новизной радовали, хотелось, как всегда весной, бросить курить, и была горькая, комом в горле стоящая тоска, словно последний стакан незадолго до рвоты — Анжела всегда была близко, наверху и внизу, за бетонными перекрытиями здания, часто она выскакивала из-за угла, с кем-то смеясь, он видел ее голубые и алые фрагменты среди чужих голосов и торсов — она была везде, они ни разу не поздоровались за две недели, она забыла о его жизни, как забывают о жизни комара, прихлопнутого ладошкой.
Отец выстукивал грустную детскую повесть в стиле horror, не для слабонервных детей, и было особенно тяжело засыпать под его назойливые, как песня пьяного соседа, слова…
Главным героем повести была тыква, старая сухая тыква, пустая, выдолбленная, — тыква со свечкой внутри, которую два друга вырастили, выдолбили, пугали ей кого ни попадя, затем забыли, а она снова явилась, стала пугать, как пуга, довела до маразма… Самое странное было то, что оба эти друга были патологически похожи — у них были одинаковые лица, и они оба любили одну женщину, и у нее родился ребенок, и никто не мог понять — чей он сын — его или его?
И когда он, это новоиспеченное Эго, выросло, оно всю жизнь колебалось, мучилось, искало отца, пока его не прирезали, пристрелили, отравили или как там еще?
А он уже был уходящим: рассеянные заботы пятикурсника, необязательные консультации, дипломный проект-рыба, как и у всех, версифицирующий чужие давнишние мысли, и вывесили списки на распределение, и Стаканский увидел вдруг против своей фамилии — Тамбовская область, Моршанск.
Стаканский всегда тонко чувствовал ложь, откуда бы она ни исходила, казалось, у него имелся особый орган, улавливающий малейшие сигналы лжи… Король встретил его брезгливым взглядом — «поверх очков» — как можно было бы записать, будь на нем очки.
— Распределение дает деканат, — официальным тоном ответил он. — Мы не имеем и не можем иметь к этому никакого отношения.
— Но разве…
— Разве. Ты, между прочим, не заслужил никакого поощрения. Ты плохо работал, был неискренен. Ты клеветал на тех, кому завидовал, на тех, кто лучше тебя. Вон отсюда. Чужак. Мне даже противно пробивать тебе мазик. Уходи, студент. Бывший студент.
Король взял со стола какую-то тряпку, скомкал и швырнул Стаканскому в лицо:
— Иди вытрись. Нам не нужны пидорасы, онанисты, наркоманы. Нам нужны люди, — он показал широкой ладонью на белую голову, — с чистым сердцем, холодным разумом.
Стаканский ушел с тряпкой на лице, как рисунок Магритта, а через несколько дней его вызвали в деканат.
— Мы вынуждены реагировать, — сказал декан, старый и лысый, с шишкой на лбу, с родимым пятном в пол-лица. Говорили, он вызывает к себе хвостатых студенток, вываливает на стол содержимое брюк, приказывая: «Жюй, шлуха!» И они жуют, вяло поводя хвостами…
— На вас пришла бумага, — продолжал он, пытливо глядя студенту в глаза. — «Телега», на вашем неофициальном арго. Из милиции.
— Я не был в милиции, — прошептал Стаканский. Он всегда говорил с начальством каким-то жадным, страстным шепотом.
— Ну как же, сиповато возразил декан, пальцем прикрывая хромированную оправу дырочки в горле, отметины былой войны. — Вот тут ясно написано: Задержан в метро. Был пьян. Нецензурно выражался. Ударил сержанта валенком. Приставал к девушкам. Какая низость! — он затрясся в тихом возмущении, гремя медалями.