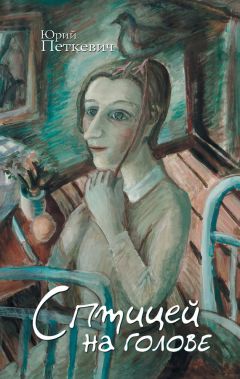— Где?
— Здесь, где? Здесссь.
— Где?
Бегу. Ветки по лицу. Бегу. Остановилась, сняла туфельки и носки и побежала босиком, а потом пожалела, что босиком . Туфельки в руках, а молитвенник под мышкой. Все ближе и ближе, но только подбегу — дальше… И опять ближе. А сердце мое под ногами. Бегу, а оно подо мной бьется, трепещет. То холодное, ледяное, то раскаленное, как сковорода, и железная, железное. Хватаюсь за сердце и за кресты, за камни. Они на солнце нагрелись и пахнут бензином. Почему бензином и почему под ногами СЕРДЦЕ? И почему оно такое большое?
— Здесь.
Бросила туфельки.
— Скорее.
— Сейчас.
— Скорее.
— Только сниму кофточку.
— Она белая?
— Нет, черная.
— Почему?
— Не задавай глупых вопросов.
— Скорее. Если не успеешь …
Я слышу, что рядом с его сердцем мое. Вернее, рядом с моим его. И я копаю свое сердце, чтобы из-под него — его голос из-под всего: я умер. Копаю, руки по локоть, а его уже нет, потому что умер, и умер в моем сердце. ТУТ ПРОЛЕТЕЛ НАДО МНОЙ АНГЕЛ С ЖЕЛТОЙ ПОДУШКОЙ. Почему желтой ? Очень страшно, что желтой, и еще страшнее, что с подушкой. По кладбищу. Так страшно, что бросилась убегать, выбежала за ворота и увидела дорогу, и уже не было так страшно, и вспомнила, что оставила у чьей-то, интересно — чьей, могилы молитвенник и кофточку, но туфелька одна была на ноге, а где другая? Еще вспомнила про велосипед, но возвращаться на кладбище за молитвенником было страшно, и — за кофточкой, искать туфельку. Пошла вдоль голубого забора. Голубокого . ГЛУБОКОГО забора. Долго падала, брела полдня или полтора дня, тут поджидает меня милиционер и — поцеловал в щечку, а потом ничего не помню. Опять вернулась к воротам — только с другой стороны, — но велосипеда не нашла.
— Так, — говорит баба. — Вон там, — показывает, — на рынке. — Кто тебе на кладбище даст штаны? Разве у них что-нибудь найдется, — и подтолкнула.
Разгружают мешки с картошкой. Молчу. Эти стараются не смотреть на меня, но один посмотрел и закричал, как все кричали, и я пошла дальше; захотела выйти отсюда, только чем дальше иду — тем больше народу. Тогда закрыла глаза и стала молиться, а меня беспрерывно толкали, и ни один из них не вздумал извиниться, но кто-то взял за руку, и я открыла глаза — подают мне штаны. И на том месте, в самой сутолоке, где молилась, стала надевать их, надела, потом провела руками — обнаружила, что сзади они порваны, — почувствовала себя в этих штанах еще хуже, чем без штанов, и разрыдалась, кто-то сунул в руку кусок белого хлеба, тогда я быстрей в сторонку, идя задом вперед, почему-то так, чтобы не видели дырки — те, кто сзади, или спереди, и присела на землю у деревца около забора. Сидела и жевала, а после того, как съела этот очень вкусный хлеб, рука так и осталась — ладонью к небу, вдруг листик с дерева упал мне в ладонь. Я улыбнулась, тут подул ветер — листочек улетел, и я еще раз улыбнулась. Удивилась, а потом просто так сидела, зажав пальцами уши, и смотрела туда, очень далеко…
Вдруг будто он позвал за забором, и, перекрестившись, подхватилась, сумела перелезть и спрыгнула на другую сторону. Там у забора росли лопухи — я вырвала один, просунула внутрь штанов, закрыла дырку и оглянулась. По шумной улице проносились автомобили. Дул порывами ветер, кружились листья, в небе кувыркались птицы и неслись клочьями облака, а я брела по улице и без конца оглядывалась. Если прохожие оказывались сзади, ожидала, пока пройдут.
Дорога пахнет бензином. И машины пахнут бензином. А чем пахну я? Смотрю на руки. Черные они. Понюхала черные. Чем? Не знаю. Чем? Но это кто-то другой. Кто? Я поняла: смертью. Земля пахнет мертвыми, а из нее потом все рождается.
— Когда?
— Потом.
— Когда потом?
— Не знаю.
— Чего ты хочешь?
— Помыть руки.
— Ну так иди и помой.
— Можно?
— Да.
— Я не верю.
Вот остановка трамвая. Конечная остановка за городом у кладбища и у рынка.
— Жди здесь.
Как здесь красиво! Какие яркие цветы, но они тоже пахнут бензином. Ему — как и всем. Украла цветок и села в трамвай с ним. Оглянулась, на меня смотрят с удивлением. Я слышу все, что про меня говорят, хотя трамвай стоял долго, наконец поехал, и я еду долго, но все слышу, что они про меня говорят. Они говорят: сука, сука, сука !..
— Да, я сука, — сказала этому.
Он сразу отвернулся.
— Отвернулся от суки, — говорю.
Отвернулись от меня все в трамвае. Только те, которые заходят, поглядывают. Им тоже говорю:
— Я сука.
Мне так надоело плакать, и сейчас я понимаю, что лучше смеяться. Посмеялась немного, совсем немного, и осознала: неправда, лучше плакать, чем смеяться; лучше рыдать… И теперь хохочу. На меня опять смотрят. Оборачиваются и смотрят. Исподтишка, долго-долго. И я проехала с хохотом в трамвае. Кто-то мне говорит:
— Смотри не проедь свою остановку.
Я говорю:
— Спасибо, — и вижу у этого человека в кармане нож. — Можно мне руку в ваш карман?
— А что вам нужно? — спрашивает.
— Ничего.
— Ну, так в чем дело? — говорит.
— Я ничего не сделаю вашему карману.
Он достал из кармана билетик, деньги, ключи, сигареты и спички. И одну бумажку мне подает. А нож скрыл.
— Деньги мне не надо, — говорю, — конечно, надо, но не надо. — Можно? — еще раз спрашиваю.
— У вас просто рука грязная, — говорит.
Тут я опомнилась:
— Моя остановка, извините.
Пропускает меня, однако кто-то схватил за локоть. Оборачиваюсь — это Иванов! Трамвай задребезжал дальше, когда захохотали хором. Потом трамвай сделал кольцо, и мы поехали обратно с другими людьми; я посмотрела на Юру — у него на глазах слезы.
* * *
— А куда, Фрося, дальше?
— Не помню, — говорит. — Поменялся маршрут, — она разводит руками. — Ладно, Юра, пойдем за тем мужчиной.
— Вы не подскажете, — догоняю его. — Поменялся маршрут трамвая…
— Я, — говорит, — езжу только на машине. Понятия не имею. Иду в гараж.
— А что там дальше? — показываю. — За гаражами.
— Ничего, — говорит. — Один лес.
— Лес нам и надо, — обрадовалась Фрося и хлопает в ладоши.
Идем за мужчиной к гаражам. Перед ним раскрываются железные ворота — он проходит в них, а мы поворачиваем вдоль забора. Дорога сужается в тропинку. Чавкает грязь под ногами, я стараюсь забирать вбок, где бурьян; колючки цепляются за меня, а Фрося — в рваных тапочках и с каждым шагом раздумывает, как ступить.
Навстречу бежит по тропинке собака.
— Осторожно, — показываю. — Наверняка бродячая.
— Не бойся, — говорит. — Она сама боится.
Идем вперед, а собака остановилась — вероятно, она бежала и ничего не думала — теперь задумалась; мы прошли мимо, немного спустя я оглянулся — собака свернула с тропинки и понеслась куда-то скачками: то пропадая в бурьяне, то выпрыгивая из него.
Наконец выбрались к мосту, и Фрося узнала дорогу.
— Да, раньше конечная остановка была вон там, — показывает, — за деревьями, и я выходила сразу к мосту.
— Я узнаю, — сказал, и стало грустно от узнавания.
По откосу взобрались на мост, и мост — горбатый, скоро оказались высоко, почти в небе, увидели далеко, и Фрося показала на голубой забор на кладбище.
Затем вошли в лес. Пригревало солнце, и в его лучах листья на березах отливали золотом. Дорога продолжала оставаться пустынной. Фрося прижалась ко мне — мы пошли рядом, под руку; сзади послышался треск мотоцикла, она тут же отстранилась от меня, но я ухватил ее пальчики и повел рядом, словно ребенка. По самому краю асфальта, усыпанному листвой, промчались мальчишки на мотоцикле — при этом тот, который сидел сзади, отставил в сторону ногу и шаркал ею по асфальту, а листья шуршали, разлетаясь по всей дороге.
Вот за деревьями дома, обыкновенные дома, но Фрося догадалась:
— Я не пойду.
— Ты мне веришь? — спросил я ее, сжимая за руку.
— Теперь и тебе не верю.
Молчу. Тропинка между кустов, вдоль обшарпанной стены; на душе голо и пусто. Подул ветер. Ветки качаются, и от них тени прыгают под ногами. Незаметно стена превращается в здание; на окнах решетки. Из железной двери выходят женщины с мужскими никакими лицами — с глазами навыкате, стеклянными глазами, не мигают. Дверь хлопает, каждый раз из нее сизый табачный дым.
Презирая меня, Фрося отвернулась.
— Невыносимо болит сердце, — прошептала. — Не бойся, — через плечо сказала мне. — Я умею его держать в руках. Сейчас пройдет. Пусти меня! — И, не успело оно пройти, только я отпустил ее, — бросилась назад. Я догнал ее и потащил обратно, она переставляла за мной свои ноги, как деревянные. Они не гнулись — скользили, будто на шарнирах по льду.