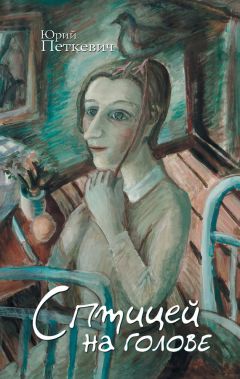— Ладно, — говорю, — если подогрела, поем, — беру тарелку, ложку.
Ем и глотаю из окна трубу, надо мной звенят комары, взял газету, где я нарисовал раньше другую трубу и дым, машу над собой левой рукой, в тарелке рябь — как на озере, собираю ложкой и ем ее.
— Что это он кричит там? — спрашиваю. — Кто это?
— А ты не слышишь? — криво она усмехается. — И о чем другие разговаривают между собой.
— Другие меня не интересуют, — говорю. — А у этого…
— Они все говорят, — утверждает, — одно и то же, и этот…
— Им нет до тебя никакого дела, — схватил ее за руку и кричу: — Это тебе только кажется так! Им всем — и на тебя, и на меня — с высокой колокольни!..
— Неправда, — плачет, руками закрыла лицо, и слезы текут между пальцев. — Неправда!
— Правда! — утверждаю. — Вот сейчас — какие-то — прошли; я разобрал только: куда ты в лужу? — Это, наверно, ребенку, женщина, слышишь, а вот и ребенка голос: не хочу. А сейчас шаги навстречу. Слышишь? Смеются еще…
Она посмотрела на меня с удивлением, с непомерным, всевозрастающим удивлением, и на глазах ее заблестели слезы.
— Они смеются, — проговорила изумленно, — над тем, что умерла моя мама. Да?
— Нет, — мотаю головой. — Они просто смеются. Они ничего не знают, не могут знать.
— А мне кажется: они все знают.
— Нет! — кричу. — Это тебе кажется.
Опять шаги и голоса…
— Ты не думай, — стараюсь быть спокойным, — о чем кто говорит, лучше поешь, — попросил Фросю. — Ешь, пока горячее, а я пойду, — хлопаю себя по лбу и тут же по щеке, — включу пылесос…
Досчитал до семисот сорока трех — и услышал, как она рыдает на кухне. Выключил пылесос и тихонько подошел к Фросе, погладил по голове, и от этого прикосновения, которое, казалось, должно немножко утешить ее, она разрыдалась сильнее. Вижу — тарелка супа нетронутая на столе, а в руке у бедняжки дрожит ложка. Я обнял Фросю, и ложка у нее выпала из руки.
— Как мне теперь жить? — всхлипывая, она запричитала: — Я целый год, каждый день, собиралась написать маме письмо — и не успела. Аяяяя-я-й, моя хорошая! Прости меня, пожалуйста, мамочка!
Я опустился перед Фросей на колени и поднял ложку, горячие ее слезы капали мне на руку, — а я хочу уйти, уехать домой, но опять за окнами голос, что труба, и мне страшно становится выйти в ночь.
Помыл ложку, вытер полотенцем и подаю обратно.
— Может, еще раз подогреть суп?
— Да, — кивает, — подогрей.
Зажег газ, тут она успокоилась и говорит:
— Не надо. Я буду холодный.
— Ладно, — выключил газ, — я устал, — я действительно устал, — останусь у тебя, — обращаюсь к Фросе, — постели мне.
— Будто ты не знаешь, где постель, — замечает она. — Не притворяйся.
Я прохожу в большую комнату, затем возвращаюсь:
— На диване мне ложиться или на софе?
— Где хочешь, — говорит с ложкой холодного супа в руке.
Открываю шкаф и достаю простыню. Стелю ее с краю софы — у стены лежат в стопках книги. Нашел одеяло и подушку. Разделся, потушил свет в этой комнате и лег, и еще зажал пальцами уши, чтобы не слышать, как за окном труба и ветер… Только стал засыпать, Фрося включила электричество и стала переносить книги с софы на стол. Я глаз не открываю, а она все перекладывает и перекладывает. Сначала я подумал, что Фрося убирает книги ради моего удобства, потом догадался: она их перекладывает, чтобы лечь со мною рядом.
Когда Фрося потушила свет и легла со мной, я обнял ее, как раньше.
— Ой! — вскрикнула она. — Не обнимай меня так сильно, — попросила. — Мне очень больно. Они били меня по ребрам.
И я стал проводить руками, не касаясь ее тела.
— Вот так? — спрашиваю.
— Да, — отвечает, — вот так мне очень хорошо…
И в этот момент за окном полилась вода — кто-то сверху вылил ее, как-то странно вылил; вода — будто камешки застучали по железной решетке и по листьям на кустах. Я догадался, что это старик со второго этажа снял с себя рубашку и вытер лужу в ванной комнате, где нет ванны и течет кран, а под ним стоит дырявое ведро; но так как выкрутить рубашку не над чем, то он открыл окно и в окне выкрутил ее — поэтому вода и полилась странно. Мне стало почти смешно, и опять голос — как труба, и почему до сих пор, до глубокой ночи, играют во дворе, смеются и кричат маленькие дети, и лупят без конца по резиновому мячу, и время от времени кто-то из них постарше — со всей силы — в кирпичную стену.
Не помню, как уснул; просыпаюсь от бряцанья ключей, поднимаю голову — в коридоре Фрося открывает дверь.
— Куда ты?
— Мне послышалось: ты позвал меня, — заявляет, и у нее такой вид, будто она хотела что-то украсть и я застукал ее.
— Я здесь, — говорю. — Закрой дверь и ложись спать.
Закрыла дверь, безучастно прошла по коридору в комнату, и опять голос — как труба, — перелезла через меня к стене, и в одежде забралась под одеяло, и тут же уснула. А я не мог заснуть — начало светать, я тихонько встал и оделся.
Отдернул на кухне штору; сейчас, когда забрезжил свет нового дня, думаешь о жизни не так, как вчера. На столе увидел тарелку холодного супа. Взял ложку и стал хлебать и смотрел в окно. Вижу — по дорожке идет с палочкой старичок и держит перед собой букетик астр. В утренней тишине откуда-то сверху, из дома напротив, раздается голос женщины.
— Иди домой, пьяный дурак, — кричит она, — сколько можно людям спать не давать?!
— Иду! Иду!
А, это у него голос трубы! Как неожиданно! И опять думаешь о жизни иначе, каждую минуту по-другому. Но этот букетик в руках у старичка заставил мое сердце вздрогнуть. Заглядываю в комнату к Фросе: она сидит на софе, локти на коленках и крепко ладонями сжала уши. Я посмотрел на часы, и Фрося оглянулась:
— Тебе надо уходить? Да?
* * *
Бросаю камешки в столб на перроне. Когда рядом проходят, пересчитываю камешки в руке. Так пересчитывал, и вдруг осенило: камешки — из ладони — в карман проплывающей мимо расфуфыренной тети. Оглянулся — никто не заметил; наконец показался поезд. Опять собираю камешки; тепловоз гудит — трясется земля; подымаю голову — первый вагон, за ним сразу двенадцатый, тринадцатый, потом пятый, шестой, седьмой, бегу за седьмым, потому что мне надо восьмой, а поезд еще идет, быстро, — бегу и бросаю камешки: в столб, в мусорное ведро, столб, мусорное ведро, пустое, камешек по жести, слышно звонче, чем перестукивают колеса; вслед за седьмым вагоном пятнадцатый, я останавливаюсь, шестнадцатый, двадцать третий, двадцать четвертый; поезд останавливается на двадцать пятом вагоне передо мной, я бегу дальше; сразу же за двадцать пятым — восьмой.
Проводница открывает дверь, и стала тряпкой протирать металлический поручень, и — отдернула руку, раздался такой звук: дзыньк! — и камешек отскочил от поручня.
— Ты что, с ума сошел?! — кричит мне.
Шлю ей воздушный поцелуй кулаком, потом увидел мальчика, и кулак у меня разжался — посыпались на асфальт камешки: все вместе они прозвучали, будто стеклянные, — от неожиданности я улыбнулся и вздрогнул.
— Павлик! — кричу, и в эту минуту кто-то из сумасшедших, которые — одни — спешили в голову поезда, другие — в хвост, — здорово толкнул его, и он — весь внимание — едва не упал, на глазах слезы; мальчик повернулся к тому, кто его толкнул, но тут с другой стороны — зацепили еще чемоданом, и растерянность на его лице выразилась прекрасно в мечущейся по перрону толпе.
— Павлик? — подбегаю.
— А где мама? — сразу же он спросил.
— Ах да, — не знаю, что ответить.
— Вы — дядя Жора?
— Нет, — отвечаю, вымучив улыбку, и — улыбнувшись, сумел показать на лице прежнюю беспечность и уверенность.
— А где мама? — еще раз спрашивает Павлик.
Через минуту перрон опустел. Даже те обезумевшие, что шныряли по перрону, пытаясь разобраться в нумерации вагонов, наконец заняли свои места и выглядывали из окон. Из двадцать пятого вагона после восьмого полилось на землю. Один из милиционеров, вышедших на перрон, заорал проводнице:
— Почему не закрыла туалет?!
— Сломалась ручка в двери!
— А то, — вопит, — здесь санитарная зона!
— Кто-то не выдержал, — оправдывается проводница. — Санитарная зона сорок пять километров и стоянка десять минут.
Подбегает большая мохнатая собака и лает на проводницу. Та замахала:
— Иди дальше, туда…
— А то напишем бумагу! — не унимается милиционер.
— Извините, спасибо, — благодарит его проводница.
Собака продолжает гавкать.
— Она просит, чтобы ее впустили в вагон, — подсказываю проводнице. — Тоже хочет ехать.
— Дальше, дальше, — показывает собаке проводница. — Неужели ты не понимаешь?
Раздался свисток тепловоза. Милиционеры направились к вокзалу. Собака наконец сообразила и побежала дальше. Из вагона-ресторана ей выбросили кости. Тут же объявились другие собаки. Павлик забыл про маму и смотрел, как они грызут кости.