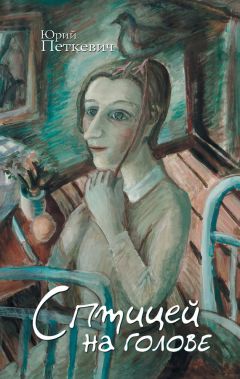— Дальше, дальше, — показывает собаке проводница. — Неужели ты не понимаешь?
Раздался свисток тепловоза. Милиционеры направились к вокзалу. Собака наконец сообразила и побежала дальше. Из вагона-ресторана ей выбросили кости. Тут же объявились другие собаки. Павлик забыл про маму и смотрел, как они грызут кости.
Рассказ второй: Дорога к желтому дому
Когда я была почти готова, раздался звонок в дверь; теперь ничего не страшно — открыла, не заглядывая в глазок. Соседка попросила яйцо и соли. Смотрю на нее с недоумением.
— Яйцо и соли, — повторила.
— Зачем яйцо и соли?
— Яйцо и соли. Я делаю салат. Все приготовила: рыбу, картошку сварила, лука, моркови — и забыла, спохватилась, яйцо купить и соль забыла.
— У меня нет, — говорю. — И никогда не было.
— Не может этого быть. Соли, — говорит, — неохота в магазин идти.
— Посмотри, — говорю, — сама в холодильнике.
— Хто это соль в холодильнике держит?
— Я.
— Зачем?
— Какая разница, — сказала, а хочется просто расплакаться, не понимаю, чего она от меня хочет. — Я, — говорю, — есть не хочу, — раскрыла холодильник. Даже бананы. И сахар. В морозильнике хлеб и печенье.
— Зачем у тебя, Фрося, в морозильнике картошка? — спрашивает.
— Он сказал, — говорю. — А вот — на… — протягиваю ей кофе, — насовсем. Я уже никогда больше не захочу кофе. Вместо соли, — говорю. Тут увидела соль.
— Вот, — говорит, — видишь.
— Не вижу, — говорю.
— Вот.
— Если видишь, бери.
— А яиц у тебя нет? — опять спрашивает.
— Тебе лучше знать.
— Слушай, — говорит, — что это у тебя за запах?
— Из холодильника?
Понюхала, закрыла холодильник.
— Нет, запах не холодный, а летний.
— Какой?
— Как летом, когда тепло и хорошо. А почему ты в черном???
— Потому что запах, — говорю.
Она сама прошла в комнату, без приглашения. В одной руке соль, в другой кофе.
— Отсюда идет. Какой приятный!
— Да, — говорю, — приятный, действительно.
— Это от цветов, — говорит.
— Нет, не от цветов. От цветов зимний запах. Да и у меня нет цветов — разве не видишь пустые вазы?
— А еще от чего может быть? — удивилась, уходя.
— Действительно, — согласилась с ней, — от чего может быть еще … — и поспешила вслед, а дверь оставила открытой, чтобы благоухание благоухало для всех.
* * *
Оборачиваются. У женщин на головах не платки, а мужские сапоги с навозом на подошвах — и запах. Еще они посмотрели на меня, я испугалась; не знаю, от кого убегаю, куда бегу. Прибежала ночью. Во мраке зажегся огонек, потом пропал, опять зажегся, исчез, появились два огонька, потухли, опять загорелись… А, это фары и дорога горками! Проехал мимо лысый мужик на машине. Я его не знаю, но мне сказали, что это Иван Антонович. Нет, задний ход, вернулся. Я сажусь к нему в машину, въезжаем внутрь церкви. Через окна сияет солнце — в его лучах воздух, как пшенная каша; молящиеся крестятся; каша над ними шипит и брызгает, словно на огне. Выходит священник с золотым крестом, тут из-под колеса курица — перья разлетаются фейерверком; еще вижу, как от креста золотые зайчики мечутся по стенам. Появляется очень толстая и высокая баба, прикладывается к иконам на стене — все лампады по очереди у нее на меховой шапке; звенят, позвякивают медные кольца на цепях, но масло не вылилось никому на головы, и… вот — за стеной сигналят без умолку, с остервенением подхватили собаки. Выбегаю из церкви — неизвестно откуда взялся Иванов и схватил меня за руку, другой — держит какого-то мальчика… Не обращая внимания на сливающиеся воедино тревожные гудки автомобилей, шатаясь, перебирался через дорогу пьяный; при этом он держал руки в карманах и курил на ходу сигарету. Иванов закричал, позвал его:
— Эдик! Эдик!..
* * *
И я не расспрашивал ее ни о чем, и губами видел в темноте, как Фрося закрыла глаза и улыбается, проводил руками по ней — над нею, не касаясь ее. И только раз она проговорилась:
— Они хотели меня изнасиловать, но я молилась, и у них ничего не получалось, и, может, поэтому было очень страшно, еще страшнее…
А я молчал, только обнимал ее, по-прежнему обнимал, и уже руки над ней, в воздухе, сделались тяжелые, будто чугунные; вдруг Фрося спросила:
— Умерла ли моя мама?
Я молчал, но почувствовал, как Фрося открыла глаза, и тогда сказал:
— Да!
И она замолчала, надолго замолчала, и лежала с открытыми глазами, не мигая, и уже мои руки перестали быть крылатыми, они опустились на нее, и Фрося сказала:
— Какие они тяжелые, раньше не замечала.
И — вот — полилось со второго этажа, словно камешки застучали по решетке, как несколько дней назад, и я осознал, остро почувствовал бездну времени, будто прошли годы, и от этого ощущения стало жутко, и сейчас я понял Фросю после того, как ее били по ребрам…
— Ты не хочешь со мной, — решила она, — потому что думаешь, что меня изнасиловали. Нет, — прошептала, — у них ничего не получалось, не получилось — поэтому и били по ребрам.
А я сказал:
— Ничего я не думаю, это не может иметь, не имеет никакого значения: так или этак.
— Для мужчины имеет, — заявила она. — Для вас все имеет значение. И ты еще, может, боишься заразиться чем-нибудь. Ведь правда, да?
— Да, — тогда сказал я, чтобы отвязалась.
Фрося еще прошептала в ухо:
— Ты не хочешь со мной, потому что я… — и не закончила: сумасшедшая ; но я понял и сказал:
— Да, — а потом: — Нет!
Она вздохнула:
— Конечно, я постарела и со мной совсем не интересно, но как мне жить тогда, если я хочу, если я могу быть только с тобой, и пускай у тебя будут девушки, сколько угодно, но я хочу быть с тобой, и ты встречайся с ними, а я буду рядом…
* * *
Приснилось: я — женщина. Я в театре на сцене. Вернее, не совсем на сцене, а за кулисами, но все равно на сцене. В декорациях деревня, ветхие домишки, столбы, заборы, поросшие мхом, — и ни души. Наконец появляется почему-то японец, и я от него удаляюсь, прохожу по какому-то коридору, за мной шаги, вижу дальше по сторонам кусты, за ними начался лес. На ветках — колокольчики; их так много, будто листьев, ветер подует — они стрекочут, как кузнечики — до безумной головной боли. В лесу — кладбище, и я иду между крестов с желтой подушечкой в руке. Оглянулся, оглянулась : где японец? И, оглянувшись, я сразу — в своей деревне, дома, — лихорадочно собираю вещи, спешу на электричку и понимаю: сюда не вернусь. В окна всякая дрянь лезет, рожи; среди рухляди, тряпья нахожу гипсовую маску женского лица — такие делают после смерти, и — узнаю себя. Она падает у меня из рук и разбивается на четыре части. Одну четвертинку аккуратно укладываю в чемодан, в этот момент заходят две девочки в белом. Они запели, и я открыл глаза, нажал на кнопку будильника, и все сразу смолкло. Позвал Фросю — она не отзывалась; пройдя по квартире, я задумался, что означает желтая подушечка.
* * *
Куда говорил он, туда и поворачивала. Но говорил: то — туда, повозка, то — обратно, повозки с зерном, то — вперед, стога сена, то — назад, соломы, то — вправо, солома с колючей проволокой. Зачем столько ржавчины в городе? То — влево ! Навоз, и я выбилась из сил, зачем в городе навоз? А еще рогатые автомобили… В фургонах коровы, гудят мне. За решетками их морды, и все они едут так быстро — и им диктует, а я думала: он только мне, но его голос мучительней, чем их все голоса, взятые вместе. Какая я дура! Мука рассеивается по ветру. Он же всем! Мешок упал с машины, но как он может всем успеть? И с телеги. А у меня вперед : в глаза пыль, и в зубах скрежет. И у него мука в воздухе. Потому что я кручу педалями — вперед, как кровь в воде развеивается, а вот этот автобус назад… Арбузы и черепа. И трамвай ! В одном, ах да, он же не может развернуться, фургоне, в этом месте, а где кости? Правила дорожного движения, направо ? Как хорошо, что я еду из города! Прямо ? Только он так безнадежно кричит, налево, а потом направо. Чем дальше, тем он дальше, и я не успеваю. Поворот кругом. За его голосом. Еще раз. Потому что он летит в том самолете. Кружится голова. Улетел — а я не знаю. Очень кружится. Куда дальше? Голубой забор.
Прямо. Голубой. Прямо. Голубой. Прямо.
— А как велосипед? — спрашиваю.
Забор. Бросила велосипед, только взяла сумочку с молитвенником и перелезла через ГОЛУБОЙ забор на кладбище. Зачем-то. Я умираю. Зачем голубой? Страшно и прекрасно. Я сейчас. Ветка по лицу. Умираю.