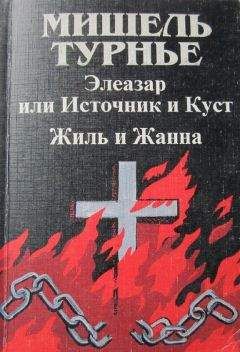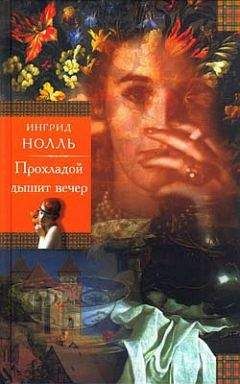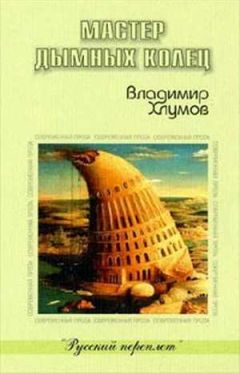Тема показалась мне интересной, я согласился. Первое действие (пьесу назвал “ЧМО” с подзаголовком “Послесловие к приговору”) написал быстро, чуть ли не за две недели. Отослал в Норильск. Там вдохновились, заказали декорации, даже начали репетировать. А у меня как заклинило. Заколодило. Ни с места. Первоначальная ясность обнаружила внутри себя пустоту, я совершенно не знал, чем ее заполнить. Сидел дурак дураком, ничего в голову не приходило. А время шло. Я понял, что драматурга из меня не вышло. Уже готов был позвонить в Норильск и сказать, что пьесы не будет. Но тут в гости ко мне приехал Андрей Кучаев, хороший сатирик и не очень удачливый драматург. Когда я рассказал ему о своем решении, он посмотрел на меня, как на больного:
– Рехнулся? Твою пьесу репетируют, не дожидаясь второго действия! О таком не может мечтать даже Розов! А ты – в кусты? Старик, я перестану тебя уважать. Ты сам себя перестанешь уважать, а это гораздо хуже!
“Если трудности кажется непреодолимыми, значит близок успех”. Сколько раз мне уже пришлось убеждаться в мудрости этого парадокса!
Неожиданно придумался поворот в характере главного героя, пьеса покатилась, как с горы.
Премьера “Чмо” состоялась в ноябре. Я прилетел с Лизой на выпуск спектакля. В Норильске уже была лютая зима с полярной ночью. Кошелев оброс, почернел и едва ли не завшивел. На театре это принято: перед премьерой не мыться и не стричься. Зато в день премьеры был как огурчик: свежий, в лучшем своем костюме, при галстуке.
На прогонах и на генеральной репетиции мы уже видели, что спектакль получился. Но все-таки волновались: как-то будет на премьере, не перегорят ли актеры, не потеряются ли от волнения. Но все прошло как нельзя лучше. Был полный аншлаг, на премьеру явился весь норильский бомонд во главе с самым большим начальством. Все были в восторге. После спектакля пришли с женами ко мне в гостиницу и распили две бутылки шампанского. Просидели часов до трех ночи, отмокая от треволнений. Потом Толя с женой ушли.
Я был особенно рад успеху. Была у меня тайная мысль. Поскольку я стал норильским драматургом, сделал для городского театра уже две пьесы, так не попросить ли у комбината продать мне новую машину. Естественно, по госцене. Моя “шестерка” поизносилась, требовала замены, а на черном рынке новые “Жигули” шли по три номинала, не подступишься. Норильск же получал “Жигули” из фондов Минцветмета, на одну машину не обеднеют. Я знал, как это провернуть. Через первого секретаря горкома партии Игоря Аристова, который наконец-то заменил вечного Савчука. С ним я был знаком еще когда он работал на комсомоле. Он не откажет мне, а на комбинате не откажут ему. Вот, сам директор комбината Машьянов, сменивший Долгих, горячо аплодировал, а потом пошел за кулисы и благодарил актеров. Нет, не откажут. С этой приятной мыслью я и заснул.
Разбудил меня телефонный звонок. Было четыре часа утра. Звонила Людмила, жена Кошелева:
– Толю забрали!
– Кто забрал?
– Милиция!
– За что?
– Пьяный!
Я разозлился.
– О чём ты говоришь? Толя пьяный с двух бутылок шампанского на четверых? Да это ему как слону дробина!
– Он в гримерке выпил бутылку водки. Один. Я не усмотрела.
Постепенно выяснилось, что произошло. Выйди из гостиницы, Кошелев поругался с женой. Она ушла вперед, Толя отстал. Он все время падал в скользких парадных туфлях. А надо сказать, что улицы Норильска полярной ночью очень ярко освещены, просматриваются насквозь. Кошелева заметил милицейский патруль. Оглянувшись, Людмила увидела, что его уже заталкивают в “уазик”.
Что делать? Ситуация была очень серьезная. В стране свирепствовала антиалкогольная компания. Пик ее прошел, но последствия еще давали о себе знать. Доходило до скверных анекдотов. Однажды в пятницу вечером пятеро начальников цехов и главных специалистов норильских заводов собрались в сауне, которые были во всех бытовках, отметить день рождения одного из них. Ему исполнилось пятьдесят четыре года. Дата не круглая, примечательная разве что тем, что имениннику оставался всего год до пенсии, которую северянам платили в пятьдесят пять лет. Народ солидный, уважаемый в городе. Попарились, выпили, душевно поговорили. На выходе их ждал наряд милиции. Утром на экстренно созванном бюро горкома партии всех пятерых исключили из партии и уволили с работы. Руководители комбината понимали, что это дурь несусветная, но сделать ничего не смогли: кампания.
То же ждало и Кошелева.
С трудом дождавшись восьми утра, я позвонил начальнику Норильского УВД, полковнику милиции, который на премьере сидел рядом со мной и очень живо реагировал на всё происходящее на сцене:
– Понравился вчерашний спектакль?
– Очень. Сильное произведение. И очень своевременное.
– Тогда выручайте.
Узнав, в чем дело, полковник с чувством выматерился.
– Когда это случилось?
– В четыре, в начале пятого.
– Почему сразу не позвонили?
– Домой? Посреди ночи? Неудобно.
– А если Кошелева выгонят из партии и снимут с работы – будет удобно? Интеллигенция! Ни хера не понимаете в жизни!
Через полчаса перезвонил:
– Поздно. Все документы оформлены. Ничего нельзя сделать.
– Вы не можете ничего сделать? – не поверил я. – Вы?!
– Я не бог. Дежурный уперся. Принципиальный. Сукин сын. Он у меня из старлеев не выберется.
– Кто может что-нибудь сделать?
– Кто! А-то сами не знаете. Только первый!..
Первый секретарь горкома партии Игорь Аристов принял меня без записи и сразу мрачно поинтересовался:
– За Кошелева пришел просить? Знаю. Уже весь город знает.
– Игорь Сергеевич, – проникновенно проговорил я. – Что вы сказали после “Особого назначения”?
– Что я сказал?
– Что театр сделал огромную работу и нужно коллектив поощрить. Помните?
– Ну, сказал.
– Но ничего не сделали.
– Из головы вылетело. У меня, кроме театра, забот полон рот.
– Вчерашняя премьера – большое дело для города? – продолжал я гнуть свою линию.
– Да, очень нужный спектакль. Мы обязательно подумаем, как поощрить коллектив.
– А здесь и думать не надо. Оставьте Кошелева главным режиссером. Этого хватит.
Аристов долго молчал, хмурился, покачивал головой, точно бы проигрывал в уме какие-то неведомые мне варианты. Наконец сказал:
– Ладно, попробую. Может, мне это и сойдет с рук. Останется Кошелев главным. Но выговорешник ему вкатим. Строгий! С занесением в учетную карточку!
Так и вышло. Кошелев получил строгача, но главным режиссером остался.
А я остался без новой машины. Потому что просить у начальства можно только что-то одно. И только один раз.
Вскоре тема Норильска снова вернулась ко мне. В основу сюжета телевизионного спектакля легла история, которую рассказал мне мой друг, норильский поэт Эдуард Нонин.
Он был еврей, но какой-то неправильный еврей. Ну разве бывают евреи-шахтеры? И не какие-нибудь нормировщики или учетчики, а самые настоящие горнорабочие, которые поднимаются из забоя в черной угольной пыли до глаз, оттираются мочалками в душе, выходят на свет божий и ничего-ничего им больше не нужно для полного счастья. Разве что стакан водки.
Таким он и был. Учился в Донецке в горном техникуме, отслужил в армии, работал на шахте. Потом завербовался в Норильск. Через три года зарплата северянина составляла 240% зарплаты жителя материка. Ровно через три года он бросил работу. Совсем. Как отрезало. И в последующие двадцать лет, которые отпустила ему судьба, никуда не устраивался. И это еврей?
Его устраивали – то оператором в котельную, то экспедитором в Управление торговли, то еще куда. Хватало не надолго. Ему невыносима была сама мысль, что нужно вставать по будильнику и куда-то тащиться. В пургу, в сорокаградусный мороз с ветерком. Да пропади оно все пропадом. Он и не вставал. Ах как я его понимал!
Поэт – это не профессия. Поэт – это образ жизни. В этом смысле он был настоящим, большим поэтом.
Когда я приехал в Норильск и познакомился с ним, он был уже очень популярен в городе. Низенький, пузатый, с черной бородищей такой густоты, что ему приходилось раздирать ее пальцами, чтобы закурить или пропустить стопарь. Всегда переполненный веселой энергией, заразительной беззаботностью. Балагур, выпивоха, бабник. Когда ему хотелось выпить, а денег не было (денег у него никогда не было), он заходил в ресторан купить сигарет и уже через пять минут оказывался за чьим-нибудь столом и сразу становился центром компании. Даже с похмелья не бывал угрюмым. Вот он утром продирает глаза, скептически смотрит на себя в зеркало и произносит:
– От длительного потребления алкоголя в лице появляется нечто лисье.
Потом исчезает в туалете. Выйдя, озабоченно спрашивает:
– Мы что вчера пили? «Гымзу»? Надо завязывать, из меня уже «Гымза» льется.
«Гымза» – это было болгарское красное вино в бутылях с камышовой оплеткой.