— База, база, я одуванчик….
— Может, за подмогой слетать? — предложил Сычёв.
— Заткнись, — посоветовал Рыков.
Не верит, снова подумал Агапов. Где его так пуганули? Вроде молодой. Танк, конечно, знает, и стрелять умеет, а вот воевать не умеет. Нервный он для войны, шибко нервный.
— Давно с училища, командир?
— Тише! Всем трёп прекратить — слушать.
Поспать что ли, подумал Егор. Самое время: заснул, проснулся — в раю. А может, в аду. Мысли потекли неспешные, дремотные, будто старческие.
Восемь лет назад призвали его в армию и увезли на самый Дальний Восток. На берегу Ханки — озеро такое — в посёлке Камень Рыболов квартировала дивизия. То, что будет танкистом, механиком-водителем, Агапов знал давно. Ещё в Троицке на курсах механизаторов обращался к курсантам один преподаватель не иначе, как:
— … ну, что, товарищи танкисты, перейдём к матчасти….
Хорошо служил. На виду был у начальства. Война с финнами грянула, Егор рапорт на стол — хочу, мол, так-их-растак, белофиннов образумить. Не пустили. Фашисты нагрянули. Дивизия тогда зашевелилась. К отправке на фронт готовилась. Два полка из трёх уехали. В аккурат под Москву поспели — задали немчуре перцу. Писали товарищи с запада — видели в смотровые щели, как фрицы драпают, ничего в них особенного нет, бить можно. Погибло, правда, не мало бывших друзей — на то и война. Тогда Егор ещё один рапорт — хочу на фронт.
— Ты куда собрался? — командир швырнул со стола листок. — Кто людей кормить будет?
Голодно жили: пайки урезали — всё на фронт, всё для победы. Пожалел тогда Егор, что лучшим стрелком дивизии числился. В сердцах пообещал изюбря добыть. Взял карабин и ушёл в тайгу. День бродил, не напал на след. Ночь настигла, ему стыдно возвращаться с пустыми руками. Разгрёб снег, полночи костёр палил. Потом уголья раскидал, лап еловых нарубил и уснул на них. Тут его рысь выследила. Почему сонного не пригрызла — судьба. Её судьба. Могла ещё прыгнуть на встающего. Но прыгнула именно в тот момент, когда карабин на плечо вскинул. На штык и напоролась. Упали вместе в снег, с тою лишь разницей — Егор напуганный, а зверь уже подыхающий. Так и доставил трофей в часть — волоком на еловой лапе. Съели вместо изюбря — голодно ж было.
Сычёв ворочается, места себе не находит. Его положение в танке самое незавидное: нижний люк в грязи затоплен, в случае чего, рискует не выбраться.
— Слышь, Агапыч, открой люк — духота.
— А гранату в него не хошь? — прошипел лейтенант.
— Гранату не хочу, — согласился Сычёв.
Письма слали друзья с фронтов, из госпиталей. Косила война бойцов ротами, полками, дивизиями…. калечила. Стыдно Егору слоняться по части при двух руках, при двух ногах, здоровому, сильному. Ребята в палатках ёжатся, вода в бачке ледком покрывается — рано в лагеря-то выгнали. А он пробежится по-над берегом и — бултых! — в Ханку, фырчит, плескается — чисто морж.
Немец летом на юге попёр. Дивизию вновь перетряхивали. Что могли, отправляли на запад. Агапову опять не повезло. Сначала на стрельбах: сунулся из люка, дурья башка, и шлем зачем-то стянул — соседний танк "бух" из башенного — порвало ушную перепонку. Вечные шумы остались правому уху. Только вышел из госпиталя — руку сломал. На турнике "солнышко" крутил на зависть всей дивизии. Попробовал исполнить нечто подобное на брусьях и…. полетел вниз головой. Голова цела осталась — руку сломал. Снова госпиталь. Голове досталась чуть позже на предупредительно-ремонтных работах. Люк башенный не законтрили, и рухнул он на сунувшегося Егора. Если не шлем, пробил бы начисто череп. Сотрясение, однако, получил и месяц госпиталей.
— Агапыч, — подал голос Сычёв.
— Ну.
— Ты же коммунист?
— Ну.
— Ну-ну. Просись в разведку — тебе-то обязаны поверить.
— Нельзя механику-водителю танк покидать.
— Ну, тогда заводи, поехали….
— Заткнись, — приказал Рыков.
— Заткнись-заткнись, — ворчал заряжающий. — В гробу намолчусь. Если будет что хоронить.
В партию вступил с тою же надеждой — попасть на фронт. Снова написал рапорт.
— Сиди не рыпайся, — был ответ. — Без тебя знают: где кому Родине служить.
Ещё раз написал, когда весточка пришла — Фёдор погиб. Тут он даже по столу стучал — хочу, мол, за брата отомстить. А когда разгневанный штабист рявкнул: "Пошёл вон!", Егор взметнул над головой его табурет.
— Ах, туды-твою-растуды, крыса штабная!
И убил бы, не подоспей часовой у палатки.
За такой проступок очень даже мог Егор Кузьмич попасть в ту самую штрафную часть, где Фёдор сгинул. Но комдив заступился: "Не всё в порядке у парня с головой — контуженый". Вместо штрафбата или "губы" ему звание повысили — старшим сержантом стал Егор Агапов. Зачитав приказ, командир пожал руку и сказал:
— Доля наша такая — молодёжь учить. Ну, так учи.
Из дома писали. Чаще всех Матрёна. А потом, как отрезало — когда похоронку о Фёдоре получили. Подспудно Егор понимал сноху — ненавидит она Родину, сгубившую её ненаглядного — ту самую Родину, которую он так рвался защищать. Понимал и не обижался. Мать писала: нелюдимой стала Матрёна и всё плачет. Прежде ждала, крепилась — теперь не ждёт.
Пробовал Леночке писать, но племяшка не ответила. Теперь сколько ж ей? Восемь да…. Девушка уж, невеста. Красавица — есть в кого.
Сестра Нюрка ни одного письма не прислала за все годы службы. Алексей писал, редко, но обстоятельно. Призвали его в июле сорок первого. Геройски воюет. Четырежды в госпиталях валялся: на теле живого места нет от шрамов, на гимнастёрке — от наград. Многих мужиков на фронт забрали. Почитай всю родню. И Илью, и Егора Шамина. Ванька Штольц отбоярился — контуженный. Андрияшка, поганец, в заградотряде служит. Не он ли Фёдора, того….
— Эх, Лука ты наш Лука. Слышь, Агапыч, мог бы и написать земляк-то наш — чай, руки-то целы.
— Да, конечно, — согласился Егор. — Это его не красит. Домой приеду — отметелю по пьянке. Иль прощу на радостях. Слышь, Петруха, на дембель поедем, обязательно к нам заедем — тебе по дороге. Сам ему всё выскажешь.
— Девки-то у вас ничё?
— Девки у нас красивые. Племяшка подрастает — писанка. Останешься — сам сватом пойду.
— Слышь, командир, у тебя невеста есть? — спросил Сычёв лейтенанта. — Расскажи, чего букой сидишь.
— Ефрейтор, соблюдай субординацию, — отрезал Рыков.
— Ну-ну….
Без Егора Агапова накостыляли Гитлеру. Берлин чадил развалинами, пора было браться за самураев. С запада шли боевые части. Их, учебную расформировали. Из целой дивизии набрался один только батальон, зато ударный.
В экипаж подобрались земляки.
Лука Лукьянов, младший лейтенант, появился после офицерских курсов — всю войну просидел дома по брони, заведуя тракторной бригадой в Петровской МТС. Егор рад был несказанно земляку. Да ещё, как выяснилось, своему командиру.
Заряжающим поставили Сычёва.
— Потомственный шахтёр Пётр Никадимыч Сычёв, — представился ефрейтор. — Из-под Курска.
— Смотри-ка, земляк! — обрадовался Лука.
— Откуда будете, товарищ младший лейтенант?
— Петровские мы с Егором.
— А район какой?
— Увельский.
— Не припомню.
— Чудак человек — так область-то Челябинская.
— Тогда какие же мы земляки?
— Переселенцы мы курские. "Куряками" так и кличут.
— А мы-то "куряне".
— Ну, какая разница: одних соловьёв предки наши слушали.
Вот такой экипаж — три танкиста, три весёлых друга. Они были молоды и рвались в бой. Никто из них не был на западном фронте, они спешили нахватать свою долю наград в скоротечной японской кампании. И вот какая досада — не в бою, на марше вышел из строя двигатель родной тридцатьчетвёрки. Они остались, бригада ушла вперёд. Ночью вдалеке где-то грохотало — наши брали Мудадзян. А они работали при свете фонаря, рискуя посадить аккумуляторы. Пришло утро.
Перед очередной попыткой завести двигатель Егор вылез на броню, сунул в рот мазутными пальцами папироску, закурил. Вид у него был неважный.
— Бедолага, — посочувствовал Пётр Сычёв. — Угрёбся? Глаза б мои на это чрево не смотрели.
Он кивнул на открытый моторный отсек.
— Невесёлая работа ещё не повод для вечной скорби, — белозубо улыбнулся Лукьянов. — И вообще, это дело вкуса, сказала кошка, когда её спросили: зачем она облизывает свои лапы.
Егор промолчал, только рукой махнул, что означало: у меня, мол, дел по горло, и мне не до кадрилей.
Всю ночь дождь тужился, но так и не собрался с силами. К рассвету погода улучшилась. Небо немного прояснилось, по нему побежали порванные на серые клочки облака, и в положенное время в просвете между ними показалось солнце. Если добавить, что двигатель, наконец, завёлся, то можно сказать, что настроение у экипажа разом поднялось.

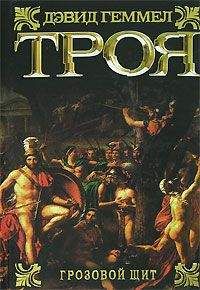
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
