Ход у танка плавный, похожий на морскую качку, действует на экипаж успокаивающе. Когда едешь, и мысли движутся вместе с тобой. А какие могут быть мысли у холостого парня? Вот кончится война, что их всех ждёт? Женщины, пьянки, гулянки? А дальше?.. Вобщем, есть о чём подумать.
Через час пути снова вынужденная остановка. Впереди дорога запружена лошадьми, людьми, подводами — какая-то наступающая пехотная часть. Тридцатьчетвёрка грозно урчит, сигналит — посторонись, дай дорогу! Но тщетно. В бесконечно растянувшемся потоке нет просвета, и никто не обращает внимания на подкативший танк. Бойцы на подводах, идущие пешком имеют одинаковые угрюмо сосредоточенные лица.
Агапов высунулся из люка, достал кисет.
— Что стал, Кузьмич? — свирепеет младший лейтенант. — Вперёд! Потесни пехтуру. Дави, коль нас не признают.
— Оставь, — возражает Агапов, занимаясь самокруткой через чур сосредоточенно. Сосредоточенность — это у него профессиональное, и вызвана тем, что взгляд постоянно нацелен на смотровую щель. В остальном лицо добродушное, есть даже что-то детское в его выражении, несмотря на рыжие усы и вертикальные складки между бровями. Окутавшись дымом, поднимает взгляд на командира, голос усталый, с трещинкой:
— Власовцы это, чумные люди, серобушлатники…
Лукьянов опять, внимательнее, посмотрел на запруженную дорогу, упёршись в чей-то недоброжелательный взгляд, отвернулся, как вздрогнул, в сторону. Через чур внимательно стал озирать окрестность.
Природа здесь была почти девственной — заросшие травой холмы, лощины в кустарниках, густых, колючих. В этих кустах, вполне возможно, прячутся недобитые самураи и целятся сейчас в них из своих дурацких карабинов.
Снизу стал толкаться Сычёв. Лукьянов уступил ему люк.
— Чего стоим? — покрутил он головой.
— Штрафники, — кивнул младший лейтенант на дорогу. — Конца и краю нет, запрудили, мать иху…. А в остальном всё как всегда, как сказал один знакомый лётчик, покидая горящую машину без парашюта…
Сычёв спрыгнул на землю, прошёлся, разминая кривые ноги. Он невысок, крепко сбит, широк в плечах. Лицо краснощёкое, тёмные, воспалённые бессонной ночью глаза смотрят на пехотинцев в упор, не мигая, словно они — пустое место:
— Штрафники? Наслышан, как они сюда добирались: вокзалы штурмом брали. Узнала Сибирь-матушка, что такое оккупация.
— Им, говорят, оружие только перед боем выдают.
— Да нет, глядите-ка, приклады вон торчат…
— Сдаётся и мне, что они сейчас сами топают, без конвоя. Должно, поблажка вышла…
Агапов не принимал участия в диалоге, слушал только, поглядывая на нескончаемый поток солдат, будто кого высматривал. Наконец, приняв какое-то решение, застегнул шлемофон и, махнув рукой Сычёву, — Петька, садись! — нырнул в люк, опустил его крышку. Заряжающий пролез на своё место. Лишь Лукьянов остался торчать по пояс из башни. Танк взревел двигателем и покатился вдоль дороги навстречу потоку, всё ближе и ближе прижимаясь к обочине.
Дико-бешено заржала лошадь, шарахнулась, вставая на дыбы. С телеги посыпались перепуганные бойцы. Агапов развернул машину и устремил в образовавшуюся на дороге брешь. Не смотря на всю виртуозность манёвра, гусеницей шкрабнуло по задку передней телеги. Она, деревянно охнув, осела на подломившиеся колёса. В спину бронированного чудовища полетели остервенелые ругательства:
— В кишки — душу — бога — рога — мать!..
Каким-то невероятным чутьём, даже не оглянувшись, Лукьянов почувствовал, что произойдёт в следующее мгновение. Он ухнул в утробу танка, и вслед за тем будто свинцовыми хлыстами щёлкнули по крышке люка две автоматные очереди. Запоздалый холодок облизал спину младшего лейтенанта. Впервые в жизни в него стреляли, и это чудо, что он ещё жив и даже не пострадал. Он не стал скрывать свою растерянность, заглянув в лицо Сычёву: вот, мол, брат, как бывает. Ефрейтор выставил вперёд большой палец: порядок, командир!
Т-34, вздымая облака пыли, бездорожьем, напрямик рванул в Мудадзян.
Бригада расквартировалась на северной окраине города. Едва успели доложиться и позавтракать, пришёл приказ: по одному человеку с экипажа в патруль — город прочёсывать. Лукьянов оглядел своих орлов. Агапов ничего не сказал, только отрицательно качнул головой и отвёл глаза. Сычёв, тот наоборот, даже скуксился и заканючил:
— Товарищ младший лейтенант, у вас и так свободный выход, а я в кои веки ещё раз попаду.
— Чудак человек, — для порядка осадил его Лукьянов. — В город-то с оружием пойдёте, не в театр: там япошек полно недобитых, да и наших-то, штрафников, в штабе говорили, поубегло не мало.
— Ну и что, посмотреть охота. Домой вернусь и рассказать нечего: слева броня, справа броня, а сверху — простите — ваша задница.
— Иди, — махнул рукой Лукьянов. — Что с тебя возьмёшь?
Сычёв ушёл, переодевшись, почистившись, прихватив автомат. Агапов для приличия повозился с железяками, поурчал двигателем и завалился спать. Лукьянов остался один и загрустил. Вот тогда взбрела ему в голову шальная мысль побродить по городу. Думал, так надо было ехать с патрулём. Вместе — не один. Ну и подстрелили, сердешного….
Егор с Сычёвым прибежали, когда его перевязанного отправляли в медсанбат.
— Держитесь, земляки, — улыбнулся младший лейтенант. — Чтоб без меня Токию их не брали. Я не надолго, только туда и обратно.
И опять улыбнулся бескровными губами. Только улыбка эта была совсем не геройской.
— Да-а, дурило наш Фатеич — на ровном месте спотыкнулся. Угораздило.
— Кому как повезёт, — поддакнул Сычёв.
— Тихо! — приказал Рыков. — Слышите?
— Что? Что?
— Да тише, вы. Слышите?
Чем-чем, а отменным слухом танкисты вряд ли прихвастнут.
Тишина воцарилась в тридцатьчетвёрке.
Будто чавкнула грязь за бортом. Вслед за звоном разбитого стекла о борт машины, свет брызнул во все щели.
— Горим! — завопил истошно Сычёв. — Открывай люк, командир. Егор!
— К машине! — крикнул Рыков. — Огонь по врагу!
Агапов откинул свой люк, полез — автомат вперёд. В спину летело Петькино:
— Горим! А-а-а-а….
Скатился с брони, плюхнулся в грязь. Вскочил. В пяти метрах тёмная фигура. Сейчас я тебя, тварь! Нажал курок — чуть палец не сломал. Тьфу, чёрт, забыл передёрнуть. А фигура — бах! бах! — белым огнём чуть не в лицо. Мимо!
По пояс высунувшись из люка, Рыков дал очередь вокруг танка — пули зачавкали в грязь. Петька бесновался в горящей машине, не имея возможности выбраться:
— А-а-а-а….
Щас, Петя, щас. Егор передёрнул затвор, но кто-то сзади сильно толкнул его в плечо.
Падая, Агапов видел, как выбивали пули искры из брони. Не видел, как сражённый, подломился в поясе Рыков, соскользнул с брони и ткнулся головой в грязь. Не слышал, как погибал Петька Сычёв, не вырвавшись из объятой пламенем машины.
— А-а-а-а….
Ему повезло — он упал на автомат и не захлебнулся в грязи, когда лежал без памяти. Его подобрали на следующий день. Он был ранен, истекал кровью, но был жив в отличие от командира. И от Петьки остались обугленные кости. Война, брат. Ничего не попишешь.
Сначала была боль физическая, она заслоняла всё. Потом заныло сердце. Эх, Петька, Петька. Не гулять мне на твоей свадьбе. И Рыков погиб. Но этому может и по делом — по своей глупости. Вылезь они на броню да услышь самураев пораньше, может и живы остались.
После Хабаровского госпиталя был долгий путь на запад. В Самарканде долечивался. Здесь и встретил Луку Лукьянова.
— Командир!
Лука вскинул голову — Егор Агапов. Вот так встреча!
— Рассказывай.
— Да что рассказывать: домой завтра еду — документы в кармане. Вчистую, командир, на дембель.
— Давно здесь.
— Давненько. Сначала в Хабаровске лежал, потом здесь в солдатском корпусе. Я через недельку вслед за вами на койку угодил.
— Где тебя?
— Да под Харбином. Погнали в лоб, без разведки, ну, и увязли в болоте. Застряли танки-то. Те, что с запада пришли — с рациями, с радистами. Они приказ получили: отступить, если нет другой возможности, броню бросать — экипаж спасать. А мы сидим — глухие, немые. Приказа нет, а отступ без приказа знаете, чем кончается — командира к стенке, экипаж в штрафники. Ночь настигла. Самураи в темноте поползли: забросают машину бутылками, подожгут и добивают экипаж, кто высунется. Сидим, смотрим, как соседи горят, и ничего не можем сделать. Я предложил: вылезем на броню да из автоматов пощёлкаем япошек, если подберутся. Командир орёт: сидеть! Дурак! Вот и досиделись! Подожгли нас. Командир орёт: машину покинуть, вступить в бой. Да уж поздно было. Выскочил из люка, меня тут же подстрелили. Так думаю: свои, из соседнего танка. Они, как увидели огонь у нас, начали палить из пулемёта по тёмным фигурам. Думали: япошки. Впрочем, самураев они, видимо, тоже накрыли: упал я раненый, а добить некому. Утром санитары вытащили. Вот так и жив остался, а Сыч сгорел: не смог выбраться из люка.

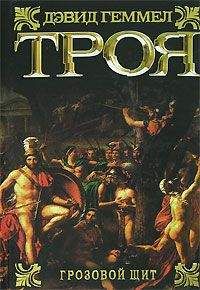
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
