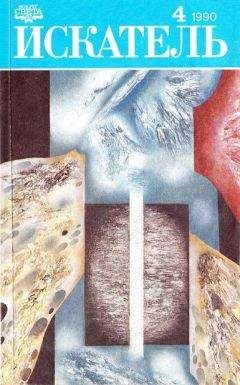Практически в каждом рассказе мы имеем небольшой психологически-языковой детектив, где не так уж просто разобраться, причем не только в том, что происходит с говорящим, но и зачастую с тем, о чем он рассказывает. Недосказанность и неоднозначность принципиальны для Кононова в его лингвистическом, языковом подходе к реальности, опирающемся — о чем часто писалось — на современные западные психоаналитические и философские воззрения (что, впрочем, существенно лишь генетически). Мы выбираем ту или иную трактовку, какая кажется более убедительной или подходящей. И тем верней это в случае такой литературной условности, как рассказчик, представляемый автором в качестве особого персонажа, полнотой информации не обладающего. В рассказе «Леонид» некто вспоминает о своем институтском знакомом (видимо, умершем, хотя «кто поручится, что его нет вообще, если я вижу его и знаю отчетливо каждую деталь его существа без посредства медиума, просто сострадая его завершенности»), причем не только воссоздает его образ из отдельных собственных или чужих сведений, а пытается домыслить, довоплотить в живом визуализующем воображении («Образ Лени стал возможен, когда наступило его небытие и он сам на сложившуюся сумму никак не повлияет»). Игра в воплощение заканчивается, когда всплывают новые факты (то, что тихоня Леонид — профессионал-картежник), прямо противоречащие созданной в воображении картине, и возникает другая трактовка, не вызывающая вдохновения у рассказчика.
Итак, Кононов создает полноценный мир, о котором, как и об окружающей нас физической реальности, можно выносить противоположные, но равно обоснованные суждения, — при этом имеются несколько психологических планов, по-разному соотнесенных с прошлым, разнесенных по уголкам памяти, имеющих разную степень очевидности, глубины и доказательности, — я бы назвал это психо- или лингво-аналитическим реализмом.
И разумеется, при таком языковом подходе к миру на первое место выступает стиль как средство ориентации в вербальной реальности. Кононов просто не может не быть «стилистом», то есть автором, свободно использующим широкий функционально-стилевой арсенал, поскольку иначе те задачи, которые он перед собой ставит, неразрешимы. Характерно, что даже на микроуровне отдельных фраз и синтагм речь его персонажей-рассказчиков насыщена разнообразными явными и скрытыми языковыми ухищрениями (в чем автору, несомненно, помогает многолетняя поэтическая практика). Вот, например, брошенная мимоходом, ироничная звукодинамическая характеристика из «Гения Евгении»: «С кастрюли сдвигалась крышка как апофеоз», это — с одной стороны — сдвигологическая (в терминологии Крученых) какофония, а с другой — скрытая цитата из Заболоцкого, у которого через зияние: «И чугуны, купели слез, / Венчают зл а а пофеоз» — передан безмолвный ор кота, ворвавшегося на аналогичную коммунальную кухню. И если герои-рассказчики Кононова убеждают в том, что их чувства, наблюдения и переживания происходили/происходят на самом деле, так что их «подвиги» часто приписывают самому автору, то это в значительной степени именно благодаря гибкой и выразительной языковой мимике.
Ведь убедительность для Кононова чрезвычайно важна, поскольку только ощущение подлинности истории, непосредственное столкновение читателя с чем-то «чужим» во всей его жутковатой чужести может вызвать терапевтический шок узнавания, открытие в себе чего-то подобного, а значит, и возможность целения. А это означало бы и определенный успех «высокой» по своей задаче прозы Кононова. Если бы только такая «учительная» задача не сочеталась с самонадеянностью обладателя панацеи, которая, увы, может травмировать не только «терапевтически», но и по-настоящему. Грех этот выражается даже не в насмешках над читателем, как у Набокова, что еще можно было бы простить, но в обидной если не снисходительности, то почти не скрываемой жалости (как и у во многом близкого франкоману Кононову Уэльбека).
Причем увидеть эту задачу можно и не озадачиваясь всеми сложными взаимоотношениями автора и рассказчика. Если внимательно и с доверием прочитать, что там у Кононова русским языком написано, то простая и ясная мораль его басен всплывет без особых усилий. К примеру, уже упоминавшийся рассказ «Гений Евгении». Здесь центральный персонаж, эта самая Евгения, с одной стороны, то есть со стороны уже взрослого рассказчика, предстает в качестве воплощения чистого (без каких-либо принципов, табу, эмоций и различий) эротизма (то, что это не совсем так, а только мнение взрослого рассказчика, которому явно противоречит эпизод с убийством — сжиганием — сына, пока можно опустить), о сущности которого говорится достаточно прямо: «Я ведь только теперь понял ее особенный брачный статус. Я только сейчас догадался, в каком она пребывала супружестве. Она была замужем за пустотой». Самый ритм этих фраз, как бы потрясающих воображаемым указательным пальцем, где палец — завершающий тяжелозвучный архаизм-славянизм «супружество», оставляют мало сомнений в том, кто этот «супруг», кто неназываемый тут поименован пустотой. Ведь очевидно — происшедшая трагедия (даже если она плод больного воображения рассказчика, как тоже имеются веские основания предполагать) есть прямо-таки каноническое следствие союза с подобной «пустотой». То, что он-пустота прямо не называется, — весьма важный факт: тут бросается в глаза, что у столь рассвобожденного в языковом отношении автора или, если угодно, у его рассказчиков имеются свои очень жесткие табу: скажем, при обилии античных ассоциаций практически отсутствует лексика из христианской сферы. И это, пожалуй, не столько политкорректность, но попытка максимально скрыть назидание, воздействуя методом наставления на примере. Но, возражу я себе, в мире нынешней прозы Кононова и не может быть христианства. Не случайно ведь редкий рассказ обходится без античных ассоциаций. Неочищенное, закомплексованное сознание его персонажей — это сознание языческое, комплексы (архетипы) — жалкие божки, от которых следует освободиться… Однако если здесь мы имеем назидание, то негативу должно быть что-то противопоставлено. И оно в рассказе тоже никуда не спрятано, это — с другой стороны, то есть со стороны рассказчика-подростка, — его удивительное восприятие Евгении как «чистого образа какой-то телесной щедрости»: «Все темное простиралось где-то там, за гранью моего зрения и, следовательно, разумения». Еще раз уточню, речь не о самой Евгении, но о восприятии подростка, который видел все, что и соседи, и что потом обнаружил в своих воспоминаниях, но принимал в себя совсем другое, чего не замечал никто. Иными словами, не в нас ли самих причина, что из воспринимаемого или описываемого мира внимание прежде всего привлекают всякие уродства и ужасы, то есть пустота, а не мерцающая где-то рядом поэзия, поисками которой занят рассказчик «Гения Евгении»:
«Но больше всего мне нравилось, когда Евгения просто одиноко стояла, заняв большую часть моего зрительного поля, ограниченного сучком. Почти не шевелясь в дряблом вечереющем свете. Как изумительное видение, равное робкому свету, который ее пестовал.
Она будто левитировала посредством его слабеющей силы, почти просвечивая».
Так что странной на первый взгляд вводной преамбулой к «Гению Евгении»: «Итак. Самое главное. Что надо помнить во время чтения. Это вовсе не смешная история», — герой-рассказчик, вспоминая смешки и прочий «курьезный фон», сопровождавший его героиню в прошлом, пытается защитить свои воспоминания от насмешек, боязливо воображая своих неведомых читателей подобными тому коммунальному окружению.
И если так, то как глубоко прячет автор свое сокровенное послание!
Повесть «Источник увечий» уже не раз обсуждалась в критических статьях, а сюжет ее пересказывался, но тем не менее ее нельзя обойти вниманием как занимающую центральное (по значению) положение в сборнике, объединяющую и выявляющую много из того, что в остальных рассказах было лишь намечено. Прежде всего здесь четко обозначена коммуникативная ситуация. Во-первых, герой-рассказчик действительно находится (или побывал на излечении) в какой-то психиатрической лечебнице («в этом замкнутом заведении»), о чем сам говорит в заключающем повесть письме, и, во-вторых, процесс рассказывания-воспоминания служит терапевтической цели (не случайно в книге повесть помещена в «Раздел излечимых болезней»), так что во введении мы слышим речь практически излечившегося человека: «…я сейчас не испытываю ни раздражения, ни неприязни, ни брезгливости… И я, по принуждению описывая все эти истории, их из себя выпалываю (курсив мой. — Д. П.)». И вся первая часть, «Здоровье», в которой описывается история дружбы рассказчика с однокурсником Овечиным и его девушкой Олей, написана ясным, внятным, утонченным и даже в некотором смысле «невинным» языком, какой сгодился бы даже для доперестроечного журнала «Юность». Так что когда повествование доходит до кульминации, до совместной лыжной прогулки, где произошло возникновение любовного чувства рассказчика к Ольге, слова о физическом «хотении» (уж не буду их повторять) на фоне всего предыдущего звучат неожиданной прямолинейностью, даже грубостью — переломом в установке рассказчика. Впрочем, герой и сам осознает, что «источник» его «увечья» именно в том нереализованном чувстве: «Я ведь любил ее особенным образом. Будто уже потерял навсегда и вся она — далекое воспоминание о невосполнимой горестной утрате… И она стала не моей любовью, а моей болезнью».