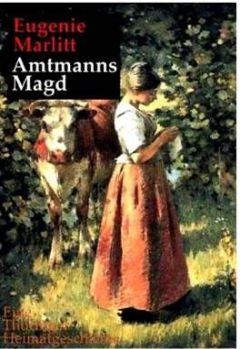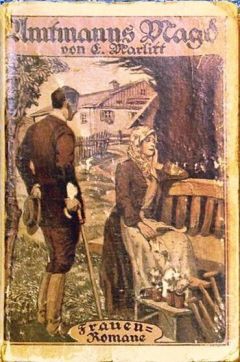— Боль не спасает нас от смерти, — утешала булиса Ашкенази свою дочь. — Она только присматривает за тем, чтобы мы умерли в мучениях.
А соседки со смехом говорили, что теперь Элиягу сможет выгребать угли из жаровни голыми руками, без совка и лопатки. Но Саломо Саломо забеспокоился и повел сына к своему старому знакомому, доктору Бартону.
В те дни доктор уже снял жилье в самом центре Мусульманского квартала. Иностранная музыка непрерывно лилась из его дома на улицу, и раз в неделю он отправлялся на рынок в расшитых персидских туфлях и в шелковом сари, чтобы купить телячьи легкие для трех своих котов. Он был известен своей любовью к операм Вагнера и даже обучил четырех русских монахинь исполнению отрывков из «Мейстерзингеров» на четыре голоса, включая бас, который принадлежал матери-настоятельнице монастыря Марии Магдалины. Кстати, этот факт был зафиксирован несколько лет спустя в иерусалимском дневнике Рональда Сторса, а кроме то го, имя доктора Бартона фигурирует также в «Книге цитат» сэра Бернарда Харви, который приписывает ему насмешливое высказывание: «В Иерусалиме есть только два терпимых места — ванна и постель». Это, конечно, ошибка. Автором этого высказывания был не доктор Джеймс Бартон, а предшественник Сторса на посту губернатора Уильям Бартон, который ненавидел город и его жителей и все два года своего правления провел в этих двух терпимых местах, где лежал пластом, декламируя строки из «Потерянного рая». Этот анекдот тоже приводится в воспоминаниях Сторса, но ничего не добавляет и не убавляет в истории Элиягу и Мириам.
Доктор Бартон был потрясен. В Индии он уже видел людей, которые не чувствуют никакой боли, людей, которые чувствуют одну только боль, и людей, которые чувствуют боль других, но никогда не видел людей с migraine du jaloux. Он сказал, что болезнь Элиягу очень опасна.
— Боль — это не наказание и не обида, это дар Божий! — провозгласил он. — Человек, не чувствующий боли, может умереть от простой дырки в зубе.
И он наказал Мириам каждый день осматривать тело мужа с пяток до макушки — не поранился ли он, не обжегся и не порезался ли, и заставлять его измерять температуру утром и вечером, чтоб не пропустить какого-либо внутреннего воспаления.
Мириам сшила мужу толстый балахон — защитить его кожу, спрятала от него все ножи и иголки и потребовала, чтобы он не выходил из дому. Но, как все, страдающие мигренью ревнивцев, Элиягу не доверял той, что делила с ним супружескую постель. Он тут же понял, что она хочет заточить его, чтобы самой бегать по улицам и беспутничать там со своими любовниками. Теперь он располагал несомненным доказательством, что все иерусалимские мужчины, от самого жалкого погонщика ослов и до верховного комиссара, от малыша, едва вступившего в талмуд-тора и до главного муфтия Иерусалима, думают только о ней, поскольку сам он ни о чем другом думать не мог.
Точно медленный грязевой поток, мигрень ревнивцев залила его великолепный монастирский мозг, затопила все его отсеки и грозила вытеснить из них все их прежнее содержимое. Он чувствовал, как боль набухает в мягких тканях головы, поднимается и окутывает кости черепа и скатывается обратно в первобытные глубины сознания. Его страдания стали такими ужасными, что и внутри дома он не позволял Мириам отходить от него или стоять возле открытого окна, где ее могли увидеть посторонние.
Теперь, когда его нервные волокна освободились от необходимости получать и обрабатывать пустяковый вздор внешнего мира, он сосредоточился на истинно важных вещах. Неотвязной слабой тенью следовал он за нею повсюду, не позволяя себе отстать ни на миг, потому что знал, что руки любителей пощупать женское тело способны опередить даже трепет мигнувшей ресницы. И каждое утро он накладывал на пару ее своевольных сокровищ пояс из арабской ткани, который обвивал их десять раз кряду, расплющивая непослушную плоть и не давая ей свободно дышать.
В своей «Книге о видах ревности» отец Антонин, кроме потребности обладать телом возлюбленной, перечисляет также ненависть мужчины к жизни жены до того, как она стала частью его жизни, страх перед ее мыслями, отвращение к ее воспоминаниям, враждебность к ее белью, к ложке, которой она ест суп, к ее старым фотографиям и к дядьям, которые подбрасывали ее в младенчестве на своих развратных коленях. Далее отец Антонин упоминает еще знаменитое убийство, известное в профессиональной литературе как случай «бейрутского ревнивца» — ювелира-маронита, который обезглавил свою жену, потому что она позволяла воздуху войти внутрь ее легких, а свету — внутрь ее глаз. Но ревность Элиягу к Мириам превосходила всё и вся и была тягчайшей из ревностей, самой мучительной и чистейшей из них, поскольку была ревностью пророческой. При всем сочувствии к несчастной маронитке, невозможно отрицать, что эта грешница действительно позволила воздуху и свету проникать в отверстия ее тела, но прегрешения Мириам, которые томили Элиягу, были хуже всех, ибо то были грехи, которые ей предстояло совершить в будущем, а не те, которые она не совершила в прошлом.
Теперь, когда ревность уничтожила остатки его сбережений и здравомыслия, молодым пришлось переселиться на Вдовью Окраину. Это был двор для бедняков, где полы в комнатах вечно покрыты пылью, мусором и голубиным пометом и где кишмя кишели хитрющие крысы и коты, которые наловчились открывать замки и с отчаянья воровали даже картошку. Комнаты были сырые и темные, а питьевая вода в облицованном водоеме была мутной от грязи, сочившейся сквозь трещины в стенках. В центре двора рос большой тополь, одичалые корни которого уже поднимали плитки полов в нижнем этаже, и горемычные женщины собирались вокруг него посплетничать по-соседски. Здесь они процеживали через пеленки воду из водоема, взвизгивая при виде красных и влажных канализационных червей, извивающихся на белизне ткани.
Зимой Мириам варила сахлев[81] и прокаливала собранные летом арбузные семечки. Весной она готовили хамле-мелане[82], а в тяжелые хамсины[83] мая и июля, когда на улицах появлялись продавцы напитков с колотым льдом и анисовых сладостей, она делала пепитаду, освежающее и утоляющее жажду питье из дынных семечек, и они с Элиягу продавали его прохожим.
Элиягу любил детей, которые собирались вокруг лотка с возбужденными лицами и зажатыми в руках медяками. Они были маленькими и не знали Элиягу в дни его величия, но им нравился этот потрепанный, грязный человек, не перестававший терзать свой мозг фантазиями, которые уже выжгли остатки волос на его голове. Он наливал им питье, загадывал им загадки с четырьмя неизвестными и рифмовал для них изречения и пословицы, но его улыбка оставалась испуганной, а глаза не переставали бегать в глазницах. Он всегда возвращался домой побитый и израненный, потому что прохожие кололи его сзади иголками и подносили зажженные спички к мочкам его ушей, желая убедиться в достоверности рассказов о его болезни.
В то время он стал еще более взыскателен к самому себе и ввел по отношению к грудям Мириам правило «только видеть», в силу чего ночи их любви стали исступленными и возбуждающими. Год спустя у них родился первенец, унаследовавший черты лица и умные глаза отца и деда и получивший имя Саломо Ихезкель Саломо. Это был живой и любознательный ребенок, и по ночам они с отцом кричали в два голоса — голода и боли, потому что младенец тоже тянулся к материнским грудям, а отец пытался его отстранить.
К этому времени несчастный ревнивец окончательно превратился в развалину и на его теле уже не оставалось ни одного живого места. Язык, который он продолжал бессознательно прикусывать, в конце концов раздвоился, как у змеи, руки и ноги распухли в местах переломов, о существовании которых он и не подозревал, гнилые зубы отравили его кровь, глаза, не ощущавшие попадавших в них инородных тел, превратились в ямы красного гноя. Доктор Бартон многократно предупреждал его и давал лекарства, но Элиягу, даром что был уже совершенно безумен, не потерял ни грана своей прозрачной монастирской логики. Бритвенная острота его самоанализа легко одолела лекарства, которые дал ему врач, ибо они, как и вся медицинская наука, основывались на предположении, что все люди похожи друг на друга, а Элиягу, на примере собственного тела и тела своей жены, видел, что это не так.
Теперь лишь одно препятствие отделяло Элиягу Саломо от полного и самозабвенного подчинения чувству ревности, и этим препятствием была его одержимость регистрацией солнечных восходов. С того дня, когда ему исполнилось тринадцать лет, он каждый день поднимался с рассветом на Сторожевую гору, чтобы зафиксировать точное время восхода. Он собирался продолжать эти наблюдения в течение сорока девяти лет подряд, свести полученные данные в таблицы и изучить по ним цикличность Солнца и времени. Но с тех пор, как он открыл и взлелеял предательский нрав своей жены, он больше не решался взбираться на Сторожевую гору, оставляя жену одну дома в опасное время третьей стражи, самое темное и пленительное из всех времен ночи. Он пытался уговорить ее подыматься на гору вместе, но Мириам отказалась, и ее наивный на первый взгляд довод: мол, кабы люди обязаны были просыпаться с петухами, Господь создал бы их с гребешками — лишь утроил его подозрения и искривил уголки его губ в горькой усмешке.