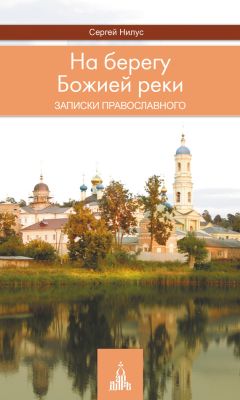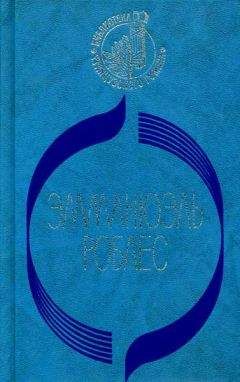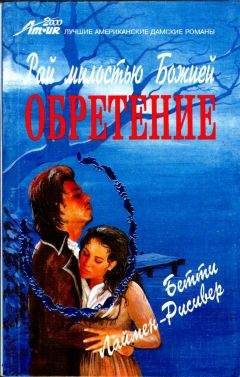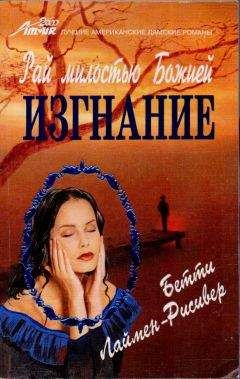В полночь зашуршал по листвяничной кровле моросящий дождь. Не зря калило солнце калило землю день-деньской, не зря до позднего вечера душила непосильная духота, чем-то она должна была в ночь разрешиться, что-то должно было нынче случиться. Вместе с дождем сразу полегчало пожилым и хворым, тяжело переносящим духоту, и Ванюшка, укутанный матерью в овчинную доху, спал в стайке легко, даже улыбался во сне, — может быть, ему снилась речка Уда, корова Майка, по самое вымя забредшая в реку, и, глядя на Ванюшку, вопрошающая: дальше брести или повернуть обратно; может быть, ему снилось сенокосное лето, когда две семьи дружно и удало косили траву и гребли кошенину, когда кока Ваня веселил и умудрял своего крестничка лесными байками; а может, виделось ему озеро, млеющее на утренней зорьке, и он, плывущий в лодчонке по тихой-тихой и прозрачной, как слеза, воде.
1988, 2003
Шкеры — летние штаны из тонкой ткани.
Чебак — рыба сорога.
Рулетка — самодельный спининг
Батик (бат, бот) — плоскодонная маленькая лодка, может быть, и долбленная из матерой сосны.
Хрушкой — крупный.
Далемба – плотная ткань.
Гальян — самая мелкая рыба.
Взять на калган — ударить головой.
Зюзя — пьяница
Жарёха — рыба на одну зажарку.
Комуха — нечистая сила.
Хама угэ (бурятское)— все равно.
Лен – позвоночник у рыбы.
Халун – горячий конь.
Товарки — подруги.
Шардошки – небольшие щучки, обитающие в озерной траве, отчего их зовут и травянками.
Молодуха – невестка
Копуша – от слова копаться, то есть что-то делать медленно.
Обломка, облом – ленивый, домовой.
Фелон — ленивый, бестолковый.
Бома – нечистый.
Аршаны — целебные воды, курорты.
Убегом - тайно
Ездить по пинки (булавки) – делать аборт.
Иманы – козы.
Архидачить — пить архи (водку), гулять.
Гурт – стоянка в степи, где жили и пасли овец здешние буряты.
Бурхан – бурятский идол.
Казёнка – кладовая.
Хуцан – невыложенный баран, которого держат в стаде, чтобы крыл овец.
МТС – машино-тракторная станция
Отинь – ленивец.
Кадка, кадушка – деревянный бочонок.
Талан – удача.
Архи – водка, по-бурятски.
Бома – нечистая сила.
Пимы – меховая обувь, которую обували поверх валенок, чтобы сидеть в санях в сильные морозы.
Арбин – конское сало.
Хубун (бурятское) – парень.
Кутузка – здесь, в смысле тюрьма.
Волхвитка – колдунья.
Ши ханэ хубун? (бурятское) — Чей парень?
Ходок – одноколая легкая, выездная телега.
Худы тэб ши? (бурятское) — Сколько тебе лет?
А р х и бы, угы? (бурятское) — Водка есть, нету?
Толмач угы (бурятское) — понятия нету.
Би шамда дуртэб (бурятское) – я тебя любю.
Сада (бурятское) – спасибо.
Моршни – куски сыромятной кожи с дырками по краям, через которые пропускался кожаный шнур и стягивался, морщился,повыше пятки.
Хурэ (бурятское) – хватит
Тала (бурятское) – друг.
Дундук – дурак.
Карымы – русские, живущий в Восточном Забайкалье, чернявые, с примесью бурят, эвенков.
Комса – комсомольцы, комсомолец, комсомолка.
Фазанка – фабрично-заводское училище.
Лагушок – бочонок.
Мангир – дикий полевой лук
Елань – таежный луг.
Гаевун – приспособление для сбора голубицы.
Адли – все равно.
Хармаки, капустины – самые крупные окуни.
Душегор – ухажер.
Мухэй шолмос, ябалдаа эндэхээ (бурятское) – Худой бес, иди отсюда.
Сайн байна (бурятское) – приветствие.
Ерышта эжидээ (бурятское) – иди к бабушке.
Яба гэртээ! (бурятское) — Иди домой!
Ерэхэб, эжи! (бурятское) — Сейчас, бабушка!
Верея — столб, на который вешаются ворота.
Сусалы — скулы.
Варнак — хулиган, разбойник.
Порос — бык.
Сопатка — нос.
Простакиша (просторечное) — простакваша.
Дрын — короткая жердь, кол.
Всяко древо, еже не творит плода добра,
посекают и во огнь вметают.
Евангелие от Матфея
Вдруг у разбойника лютого
совесть Господь пробудил…
Песнь о разбойнике Кудеяре
1
Сумрачные тайны кутают смертные грехи, как отыгравшие и угасшие страсти хоронит в себе заплесневелая кладбищенская тишь, а посему сколь Иван Краснобаев ни пытался разгадать заблудшую судьбу сельского отвержи, но все беспроку. Слышал про архаровца уйму баек — и смешных, и грешных — да и надивился на Гошу Хуцана вдосталь, отчего ухабистый, жизненный проселок его хоть и туманно, порванно, а все же виделся из края в край, от рассвета и до заката двадцатого века. Но то внешняя, зримая жизнь, отгадка же душевной, – с молитвенной слезой и покаяннием под святыми, – рассудку не давалась. Гоша… Георгий Силыч Рыжаков… оказался не так прост, каким виделся Ивану. И тогда пытливый ум, вольное воображение занесло его в родовые гнездовища Георгия Силыча, где причудливо и зловеще переплелись два кореня – староверы и христопродавцы.
* * *
…Мать пряла шерсть и кручинисто, с долгими вздохами поглядывала в окошко, отпотелое, стемневшее, за которым копился покровский снег. Шиньгая дымчатую шерсть из кудели, привязанной к резной, побуревшей от старости прялке, смачно поплевывая на пальцы, сучила нить и, наматывая ее на веретешку, чуть слышно припевала:
У воробушки головушка болела,
Вот болела, вот болела, вот болела,
Ритявое сердечушко знобело,
Вот знобело, вот знобело, вот знобело…
В протопленной кути было морошно и сонно; спал, безжизненно развалившись у печного шестка, цветастый и лохматый кот Маркот; а за дощатой переборкой, межующей избу на куть и горницу, будто шебаршили на реденьком ветру палые листья, – молилась одышливым шепотом бабушка Маланья, материна свекруха, коротающая век то у дочери, то у сына Петра. Щепелявый старухин говорок прерывался иногда тоненьким, испуганным меканьем, — в закутке около печи, где грудились в углу сковородники, ухваты, помело, шатко расхаживал, постукивал крохотными копытцами кучерявый, белоснежный иманёнок, с ним играл трехлетний Ванюшка: встав на карачки, сердито мекая, бодал иманёнка, отчего тот раскатывался и оседал на задние ноги.
— Да не мучь ты иманёнка,— проворчала мать.— Прямо обалдень какой-то растет, добрых игр у него нету.
— Я тоже иманёнок, — обиженно отозвался Ванюшка и опять стал тыкать лбом своего дружка.— Забодаю, забодаю! Ме-е-е…
— Не иманёнок ты, а поросенок, — умилилась мать, ласково покосившись в закуток, но тут же, глянув в окошко, сухо сплюнула в стеклину. — Тьфу! Летит черт с рогами, с горячими пирогами. Прости, меня, Господи, — она, помянув лукавого немытика, тут же испуганно перекрестилась на божницу.
Услыхав про черта с рогами, Ванюшка замер, прижался к иманенку, но… черт ведь с горячими пирогами, – у парнишки аж слюнки потекли. Тут и ввалился Гоша Хуцан с деревенским печником Николой Сёмкиным, и сразу же с порога загарланил, широко развалив рявкающую гармонь:
— Не ходи ты рядом с толстым задом…— он с тем же рявканьем свел меха гармошки. — Где, Ксюша, хозяин-то? Где Петро?
— Да где ему быть?! Тоже, поди, по дворам шалкат, рюмки сшибат, — не глядя на гостей, раздраженно ответила мать.
— А мы, Ксюша, рюмки не сшибам…
— Ага, вы же не пьете, за ухи льете…
— Ты пошто, Ксюша, така сердита?! У нас же седни праздник — Покрова. Батюшка-покров, как баят, покрой землю снежком, а тебя, молоду-ядрену, женишком, — он счастливо загоготал, притопленные, кабаньи глазки растаяли среди тугих, сиреневых щек; потом опять рванул гармонь, игриво пробежал пальцами по забуревшим пуговкам и, сладко жмуря глаза, понес было соромщину. — Душегорку я имею и другую завлеку…
Но тут мать кышкнула на него, как на кочета беспутого, показала глазами в запечный куток, где Ванюшка, оробело жался к иманенку.
— Кого попало-то не базлай, — ребенок рядом.
— А-а-а, Ванюха-поросячье ухо, – Гоша свернул свою вечную гармозею и поставил на курятник, где шебаршили куры, тюкали в корыто, склевывая зерно. – Ну-ка, ну-ка, подь-ка сюда, погляжу женилка выросла?
С той поры, как Ванюшка стал помнить про себя, Гоша Хуцан да вот еще сосед Хитрый Митрий, совхозный тракторист, вечно переживали: выросла, не выросла у парнишки… и норовили глянуть, бесцеремонно цопая за сатиновые шаровары.
— Не лезь к парню, — осадила мать Гошу. — Залил свои шары бесстыжие, дак сядь, прижми хвост.