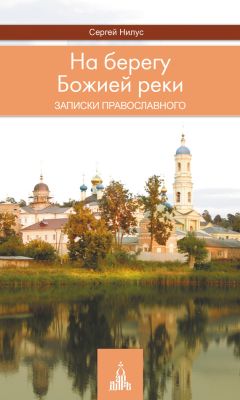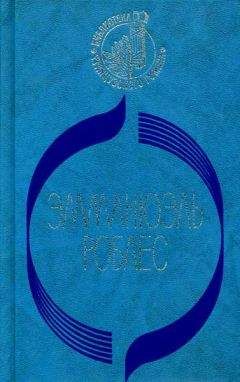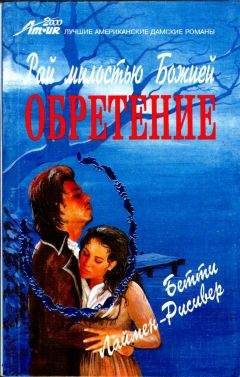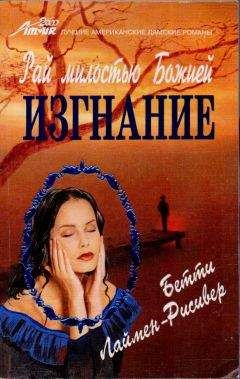— У тебя болесь — девке под юбку залезть, — не удержавшись, фыркнула мать, намекая на известные всей деревни, бесконечные шашни Гоши с разведенками и вдовами. – Гульливый, что иман бесхозный.
Гоша, будто его похвалили, гусем загоготал на материны попреки:
— Не намок порох в пороховнице… Дак чо, Ксюша, поделашь – девки проходу не дают. Шибко бравый, ли чо ли?.. – липнут, как мухи на мед. Отбою нету.
— Не изработался… — встрял Никола Сёмкин, – всю жись в пень колотил да день проводил. Он какой мамон отростил… – Никола покосился на провислое Гошино брюхо. – Повоевал бы и помантулил с моё, дак по девкам бы не шастал.
Гоша уставился на него тяжелым, прищуристым взглядом, и Никола сник.
— И как Груня терпит, ума не приложу, – подивилась мать – Другая бы уж давно вытурила. Допрыгаешься, Гоша.
Гоша до того окобелел, что по осени, сплавив двух своих парнишек к бабушке, домой сударушку припер, разведенку Тосю, с которой о ту пору крутил, – забыл, остолоп, мужичье правило: не блуди, где живешь. Груня моталась в город за товаром, и должна была вернуться на другой день, но изловчичилась, обернулась обудёнкой, да и грянула на ночь глядя. Когда застукала блудней… нежатся на пуховой семейной перине, воркуют, чисто голуби… то Гоша невинно захлопал ясными очами:
«Ты, Груня, ничо худого не подумай… Забежала Тося по соль, да чо-то занедужила, голова закружилась. Пришлось уложить…»
«А сам почо рядом лег?»
Гоша задумался: почо рядом лег?.. но Груня ехидно подсказала:
«Сухари сушить… У-у-у, блудни!»
Кинулась баба волчухой, чтобы Гошиной марухе кудри расчесать, тут мужик и улизнул от греха подальше. Следом вылетела пробкой и Тося-разведенка… Как уж Рыжаковы потом примирились, никому не ведомо, – сор из избы не выносили, под лавку копили. Но потешный слух, – как Груня прихватила мужика в родной избе с ночной пристежкой, и выдрала той клок шерсти с беспутой головенки, – дивом высочился из кондового Гошиного пятистенка и пошел шататься по селу, теша мужиков и яря мужних женок. Да и как было слуху не высочиться, ежели сразу три мужика – Петр Краснобаев, Никола Семкин, Митрий Шлыков, прозываемый Хитрым Митрием, – уже подвалили к Гошиной избе…кололи у Хитрого Митрия быка, выпили под свеженину, мало показалось, вот и дунули к Гоше. Уж брякнули железным кольцом об калитку, где пугала надпись «Острожно, злая собака»… кто-то сверху гвоздем по краске приписал: «злой хозяин»… и тут с визгом вылетает из ограды полуголая Тося, а следом Груня с кочергой. Как не захлеснула бедную…
— Аксинья, бравая ты моя, – улыбнулся Гоша на материны слова, – ты покажи мне бабу в деревне, которая бы за это дело мужика выперла?! Я своей так и сказал: раз сама ничо не можешь, сиди и молчи в тряпочку. А я мужик ишо в соку.Терпи…
— Терпят бабы, деваться-то некуда.
— По-доброму-то гордиться должна, что мужик у ей, хошь и в летах, но не развалюха, как иные… сплошь и рядом. Девки ишо зарятся, не говоря уж про баб… А потом, как баят: сучка не захочет, кобель не вскочит. Во… Так что, Ксюша, мужик-то и не виноватый, ежли не силком…
— И язык-то у тя блудливый, что бык бодливый, – отмахнулась мать.
А бабушка Маланья, брезгливо скосившись на переборку, посулила Гоше:
— Но ничо-о, Хуцан… ничо-о, на том свете подвесят за муде… пороз нелегчанный.
3
Хоть и перевалил полвека, за Гошей, особливо по-бабьей части, и молодым было не угнаться. Вызрел мужик приземистым, кряжистым… весь в корень ушел… на лицо жарким, хоть сырые портянки суши; щеки лоснились, точно смазанные гусиным салом,— недаром продуктовыми складами ведал, наел ряшку; черные волосы, с кучерявинкой, но глубокими прокосами от висков, потно липли к низкому, стесанному до бровей, изморщиненному лбу. Баял он по-тутошнему, но на обличку, вроде, и не русским вышел, не то жидоват, не то цыгановат. Таким и запомнился маленькому Ванюшке, который страх как пужался его, когда тот вваливался в избу и ревел по-бычьи, терзая несчастную гармонь. Случалось, Ванюшка с перепуга залазил под кровать, откуда мать выгоняла его ухватом или выскребала кочергой.
Вот и теперь, играя крашенными в разные цвета бараньями ладыжками, при всяком Гошином выкрике, жался, по-птичьи дрожжа, к ногам бабушки Маланьи, толстым, раздутым водянкой, которые казались еще толще, обутые в суконные, осоюзенные кожей ичиги. Старуха шипела сквозь обиженно поджатые губы, исподлобья косилась на крашеную переборку, за которой похмелялся Гоша Хуцан.
— Безмозглый поп тебя крестил, — зря не утопил, прости мя Господи,— тряской щепотью перекрестилась на икону с запаленной по случаю Покрова Богородицы золоченой лампадкой; и опять пожалела, что не утоп Гоша во время крещения, забыв по старости ума, что тот, по кровному батюшке еврей, вовсе даже и не знал купели Божией. — У-у-у, винопивец проклятый. Остатню совесть пропил… Церкву порешил… — вдруг вспомнила она далекое-далекое и горестно покачала головой, оглаживая внука по волосенкам, ему же и высказывая обиду. — И как ишо руки не отсохли, как земля доржит, прости, Господи, мя грешную, — она опять побожилась.— Ну да, погоди, погоди — дождесси ишо. Бог-то не Микитка — повыломат лытки.
Бабушка Маланья зимовала и летовала в тот год у сына Петра, прикочевав к нему от дочери из соседней деревушки, но, недовольная тогдашней Краснобаевской жизнью, гульбой своего постаревшего чадушки, ладилась обратно к дочери. И шибко серчала старуха, что в доме сына, как на проходном дворе, вечно толклись пьяные мужики, навроде Гоши Хуцана, – его, будь на то ее полная воля, и близь порога не пустила бы, не то что за стол сажать, закуску подавать. Еще старухе шибко не глянулось, что в горнице, по соседству с божницей, висели в сумрачных рамах портреты Энгельса и Маркса, которые Петро …тоже коммунист, навроде Гоши Хуцана… приволок из погоревшей избы-читальни. Но приходилось терпеть… не в своем дому, знай сверчок печной шесток… и лишь ворчала потихоньку, жалуясь то молодухе, то внуку Ване, утехе своей на закате лет.
Мужики выпили, душа беседы запросила.
— А ты с каких пирогов вчерась загулял? – спросил Никола, и Гоша не утерпел, похвастал:
— Исай Самуилыч приезжал… Помнишь Лейбмана?.. Директором в «Заготскоте» заправлял.
— Помнишь… – зло усмехнулся Никола, поминая свое горькое. – Я через него из рыбохраны вылетел. Это когда с сетями их прижал… – Никола оглянулся на мать, которая возилась у печи с чугунками, и потише прибавил. – Вместе с Петрухой Краснобаевым…
— Дак чо, ежели ума нету. Глаза надо было пошире разуть…Увидел бы, на кого руку подымаш… А потом, нужны Самуилычу наши воньки окуни, ага. У него там икры и черной, и красной, и серо-буро-малиновой… хошь в зад пихай. Отдохнуть на озеро выехали, выпить, закусить. Петро и сеть-то кинул, чтоб на варю поймать, свежей ушицей Самуила отпотчевать. А ты…
— Да я их… иудино племя… всех хотел к ногтю прижать?
— Ладно, – Гоша насмешливо покосился на Сёмкина – сиди уж, не рыпайся … Так вот, Самуилыч же мне, навроде, сводного брата… Приехал по делам… он теперичи в городе большая шишка… ну и, короче, ближе к ночи, собрал наше начальство. Ну, а без меня куда?! Сперва суглан, а потом сабантуй… – Гоша звонко щелкнул себя по горлу. – И Петро за стол втерся… А стол, паря, ломился. Откуда чо понапёрли, ума не приложу…
— Да-а, у нас народ будет с голоду загинаться, а начальство от жиру лопаться…
— На то они, Никола, и начальство. У их работа тяжелая. Это кажется, что бумаги перебирают, да работников гоняют… Вот у тебя голова болит, как печку сложить да похмелиться, а они денно и нощно переживают за производство, за народ…
Гоша Хуцан, плеснувший на старые дрожжи, а посему и быстро охмелевший, начал плести всякую околесицу:
— Э-эх, Аксинья ты, Аксинья, надо было мне, дураку, на тебе жениться — добрая у тебя душа. Труженица ты, Ксюша.. А моя-то карга… змея подколодная… Эх, надо было тебя, Ксюша, брать…
— Да с тобой, бара, хуцаном, путняя-то баба на один гектар не сядет, — проворчала бабка Маланья.
— Ладно, допивайте и яба цыренка, — велела мать, одевая на себя телогрейку, накидывая шаль.— У меня там скотина измычалась. Кормить пора…
Мать уже открыла дверь в сени, когда Гоша крикнул:
— Погодь-ка, Ксюша. Чо я тебе скажу…
И тут же шмыгнул вслед за матерью. Вначале было тихо в сенках, потом послышался грохот, полетели ведра, затем — крик, и тут же разлохмаченный влетел в избу Хуцан, держась обеими руками за голову.
— От язви тя в душу, а! С ней как с доброй, а она…
— Коромыслом по хребту, чтоб мотней не тряс, — мрачно досказал Никола Семкин.
— Ничо-о, еще прищучу… – Гоша опять загарланил. — Не ходи ты рядом с толстым задом…
— Ну и упадь же ты, Гоха! — выругался Никола.— Тебя как доброго люди за стол посадили, а ты и ноги на стол. К бабе лезешь…