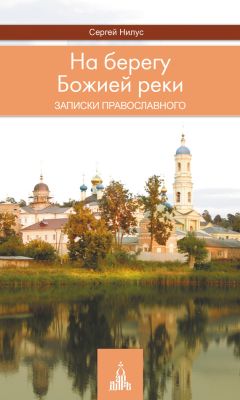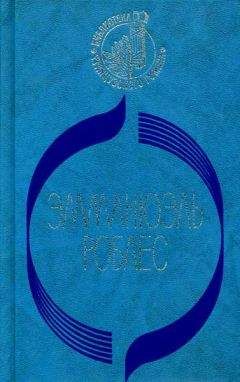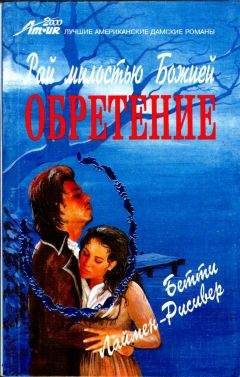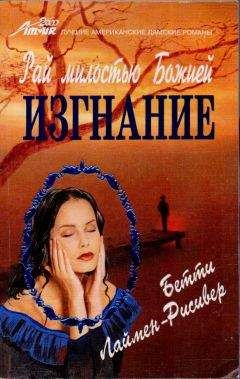— Не ходи ты рядом с толстым задом…— он с тем же рявканьем свел меха гармошки. — Где, Ксюша, хозяин-то? Где Петро?
— Да где ему быть?! Тоже, поди, по дворам шалкат, рюмки сшибат, — не глядя на гостей, раздраженно ответила мать.
— А мы, Ксюша, рюмки не сшибам…
— Ага, вы же не пьете, за ухи льете…
— Ты пошто, Ксюша, така сердита?! У нас же седни праздник — Покрова. Батюшка-покров, как баят, покрой землю снежком, а тебя, молоду-ядрену, женишком, — он счастливо загоготал, притопленные, кабаньи глазки растаяли среди тугих, сиреневых щек; потом опять рванул гармонь, игриво пробежал пальцами по забуревшим пуговкам и, сладко жмуря глаза, понес было соромщину. — Душегорку я имею и другую завлеку…
Но тут мать кышкнула на него, как на кочета беспутого, показала глазами в запечный куток, где Ванюшка, оробело жался к иманенку.
— Кого попало-то не базлай, — ребенок рядом.
— А-а-а, Ванюха-поросячье ухо, – Гоша свернул свою вечную гармозею и поставил на курятник, где шебаршили куры, тюкали в корыто, склевывая зерно. – Ну-ка, ну-ка, подь-ка сюда, погляжу женилка выросла?
С той поры, как Ванюшка стал помнить про себя, Гоша Хуцан да вот еще сосед Хитрый Митрий, совхозный тракторист, вечно переживали: выросла, не выросла у парнишки… и норовили глянуть, бесцеремонно цопая за сатиновые шаровары.
— Не лезь к парню, — осадила мать Гошу. — Залил свои шары бесстыжие, дак сядь, прижми хвост.
Но опоздала: мужик, словно репку из гряды, выдернул парнишонку из запечного кутка, приподнял на руках и, умиленно залюбовался, глядя в испуганную круглую мордашку Краснобаевского чада.
— Да… – протянул задумчиво, оглаживая парнишонку по стриженной налысо, крупной, шишкастой голове. – При коммунизме, Ксюша, будет жить, – все даром. Не будет пластаться, как рыба об лед, не наша беда: кус хлеба с солью да вода голью. Заживет, как у Христа запазухой… Хрущев же как сказал: нынешнее поколение детей будет жить при коммунизме. Ему счас три года?.. О, как раз в семидесятом коммунизм и привалит. А Ванюхе семнадцатый пойдет. Не жись у парня будет – сплошная малина. От, паря, заживут… не наша беда – кровь да война. Но, может, хошь помянут нас добрым словом, как мы в холоде, в голоде, под пулями отстояли и построили им коммунизм.
— Отпусти парня! – сердито велела мать, – зашибешь, не доживет до кумунизма твоего. Да с такими кумунистами… – она усмешливо глянула на Гошу, – ничо путнего сроду не построят. Всё расфугуете…
Никола Сёмкин смехом скомандовал:
— Кумунис!.. ложись вниз!
Гоша ссадил Ванюшку на пол, и малый от греха подальше юркнул в горницу, забрался на койку, укрытую цветастым, лоскутным покрывалом, и утаился за широкой бабушкиной спиной. Мужик сунул нос в горницу, церемонно поклонился бабушке Маланье, поздоровкался на хохлатский манер:
— Здоровеньки булы, Меланья Архиповна.
Старуха лишь повела на него осерчалыми очами и молча отвернулась.
— С праздником Вас, Меланья Архиповна, с Покровом.
— У тебя, зюзи, через день да кажин день праздник, — не глядя на гостя, проворчала бабушка Маланья. — Как чарку поднесут, так и поднесеньев день.
— Нет, Меланья Архиповна, я сам себе подношу, не голь перекатная. Ишо пока в кармане брякат… — Гоша призадумался, укрылил памятью вдаль, рассеянно и улыбчиво глядя на старуху. – Батя мой все поминал, Сила Анфиногеных: запряг, говорит, жеребца в кошевочку и, дескать, еду свататься к Анфисе Шуньковой, к мамке моей. Но это ишо в Укыре… Тихонько еду, жеребца не понужаю, и уж к Шуньковской усадьбе подъезжаю, а встречь Малаша… Это про тебя, бабушка Маланья… Стоит, дескать, с Петрухой на руках. Тот ишо титьку сосал… А уж дело по весне было, снежок таял… Но и, говорит, дескать, стоит Малаша, парнишонку тетешкает на руках. Здоровая, красивая, аж загляделся. Завидно стало…
— Ой, – махнула рукой и брезгливо сморщилась старуха, — иди, иди, пустобай.
— Охота мне с тобой посудачить, Меланья Архиповна, про ранешну жись. Ты ить старуха мудрая…
— Об чем нам с тобой, Гоша, судачить?! — осекла его бабушка Маланья. — С тобой,бара, водиться, что у крапиву садиться.
— Да?.. Ладно, не ругайся, бабка, — седни же праздник Покрова, — грех ругаться.
— Иди-и, Гоша, иди, не досаждай. Выпивай, закусывай…
2
Незванный, нежеланный гость вернулся в куть, не солоно хлебавши, но, зарно глянув на хозяйку, повеселел.
— Значит, Ксюша, говоришь, хозяин-то рюмки сшибат? — Гоша Хуцан засмеялся.
Степенно снял каракулевую шапку, долгополое кожаное пальто и повесил на березовую спичку, вбитую в избяной венец; оставшись в темно зеленом кителе и черных галифе, промялся по кухне, смачно скрипя шитыми на заказ, ладными хромовыми сапогами и с кряканьем потирая руки. В полувоенной справе Гоша, будучи ростом аршин с шапкой, смахивал на задиристого деревенского кочета, хотя и трудовая мозоль подпирала китель, а плечи жирно обмякли.
— Раздевайсь, Никола. Не стесняйся, ты же в суседях живешь…
Мать исподлобья, ворчливо зыркнула на Николу Сёмкина и посрамила:
— Ты, Никола, совсем сдурел, – лакашь и лакашь эту заразу, не просыхашь. А Варуша там одна пурхатся с ребятёшками, – пожалела мать свою подругу. – Ни стыда, ни совести.
Никола виновато и обреченно вздохнул: дескать, свинья, она и есть свинья, но тут же и дал зарок, побожился:
— Все, Ксюша, кончаю гульбу, ей Бог.
— Ага, зарекалась блудливая коза в огород не лазить…
— Нет, Ксюша, вот похмелюсь, и ша… А то мотор заглохнет, – Никола, болезнено сморшившись, помял грудь.
— Счас горючки плеснем в карбюратор, – мотор как часы заработает, – Гоша выудил из вольной мотни черных галифе бутылку «сучка» и припечатал к столешнице. – А вот мы, Ксюша, не Петро твой, мы рюмки не сшибам, у нас завсегда свое.
— Раз Груня вином торгует, дак чо же не будет-то, — ловко подкусила его мать, а про себя укорила: «Идет, а хучь бы пряник завалящий парнишке принес…родня.»
Груня, Гошина баба, доводилась Ванюшкиной матери сестреницей; торговала весь свой век в винополке и была печально знаменита на весь Сосново-Озёрск тем, что в ночь-полночь брякни в ставень условным стуком, а потом сунь в приотворенную калитку потные, мятые трешки, — Груня тебе хоть ящик водки выставит, но, конечно, за ночную мзду. Может, поэтому про барыши, спрятанные у Гоши с Груней в чулке, городили самое диковинное, и в этом, казалось бы, диковинном деревенские перестали сомневаться, когда Гоша летом одолжил нищему колхозу десять тысяч на зарплаты. Что сам поимел от такого одалживания, Бог весть, но уж, поди, и без приварка не остался, – мужик ушлый.
Гоша, живущий крепко, в родню к худородному свояку Петру Краснобаеву шибко-то не лез, не желал с голытьбой родниться; но любил иной раз завернуть, похвастать достатком, покуражиться; любил и вот так выпить на живу руку, чтоб не под забором. У Груни-то в избе по одной половице ходят, шибко-то не разгуляешься, махом выставит взашей вместе с пьянчугами. Мать же по мягкости характера не могла Гоше сказать: дескать, вот Бог, вот порог, но так хотелось, потому что были на то причины.
Когда отец одно время пил без просыху и, случалось, всю зарплату оставлял в винополке, когда семья уж дошла до голодного края, кинулась мать к Гоше Хуцану за подмогой, деньжатами разжиться… у сестреницы Груни льда в Крещение не выпросишь… да с чем пришла, с тем и ушла от райповской базы, где Гоша заправлял.
«Стоит в приамбарке, как блин масляный, — жаловалась мать свекровке, бабушке Маланье. — Улыбку, бара, кажет, а поди-ка выпроси чего, — на навоз переведется. На языке мед, под языком лед… Верно что, жид – на коровьем шевяке дрожжит…» Зареклась мать соваться к Гоше с нуждой и даже грозилась, что гнать будет его поганой метлой, ежели припрется с выпивкой; но сердитые посулы так посулами и остались: завернет Гоша на огонек, мать покорно, хотя и с бурчанием, ставит рюмки, достает из подполья соленых окуней на занюх.
Она и теперь их выложила на стол, потом откроила пару ломтей хлеба, вывалила из чугунка на столешню, скобленную ножом-косарем до желтоватого древесного свечения, стылые картохи, варенные в мундире. Поставив бурые от чая, граненые стаканы, собралась уходить, но Гоша Хуцан придержал за рукав.
— Сядь с нами, Ксюша, выпей трошки. Посиди хошь с мужиками… пока Петрухи-то нету, — он хихикнул, подмаргнул Николе и хотел ущипнуть мать, но та брезгливо и зло смахнула с себя блудливую руку.
— Тверёзому с вами пьяными сидеть – это же казь Господня, как в сумашедшем доме. Да ишо и слушать ваши матюги… Некогда мне с вами рассусоливать — скотина ревет, не поена, не кормлена. У вас-то ни об чем башка не болит.
— Кого там не болит?! — Гоша Хуцан знобко передернул плечьми, расплескивая водку тряской рукой. — Разламыватся. Едва у Груни на бутылку выпросил. Вредная у тебя, Ксюша, сестреница, — Гоша беззлобно ругнул жену Груню. — Вся в вашу семейску родову. Семисюха ишо та… От, ядрена вошь, болесь-то себе наживам, — вздохнул он, шумно нюхая водку, поднесенную к самому носу. — От болесь, дак болесь…