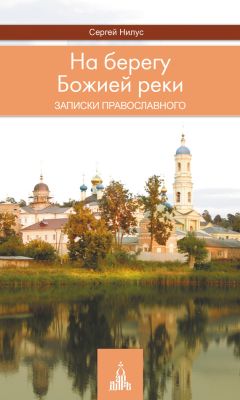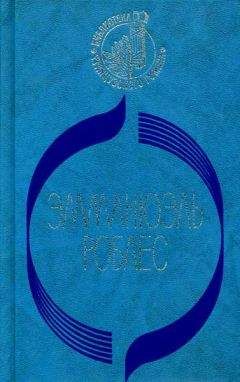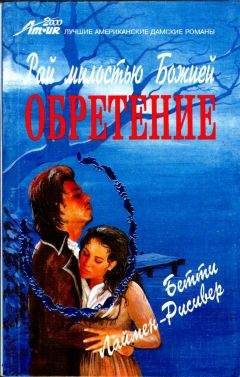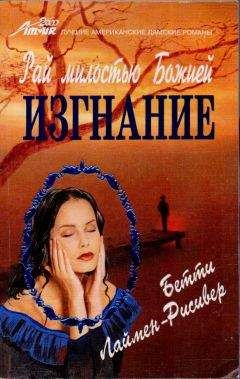— Коромыслом по хребту, чтоб мотней не тряс, — мрачно досказал Никола Семкин.
— Ничо-о, еще прищучу… – Гоша опять загарланил. — Не ходи ты рядом с толстым задом…
— Ну и упадь же ты, Гоха! — выругался Никола.— Тебя как доброго люди за стол посадили, а ты и ноги на стол. К бабе лезешь…
— А ты чо рыпашся?! — поднялся Гоша. — Я таким дохлым, как ты, лен ломал одной левой.
— Пойдем, поговорим, — Никола, опершись на столешню, шатко поднялся.
— Ну-ка, вы, зюзи подзаборные, топайте отсель! — крикнула из горницы бабушка Маланья, у которой уже, как в ознобе, тряслись, ходили ходуном руки, похожие на корявые, разбухшие, изморщиненные коренья. — И чтоб духом тут вашим не пахло. Ишь расселись. Ишо и драку зачините…
Во время приспела мать и вытурила нежданных-нежеланных гостей. Когда они с матюгами вывалили из избы, оставив в кути тяжкую махорочную вонь, перемешанную с запахом сивухи и соленого с душком окуня, Ванюшка, мало еще соображавший, но, по мнению бабушки Маланьи, шибко язычный, тут же и высказал матери:
— Мам, а мам, ты говорила, идет черт с рогами, с горячими пирогами, а пришел Гоша Хуцан. И никаких пирогов горячих не принес. Ты пошто наврала-то?
Мать на такие Ванюшкины слова лишь качнула головой и невесело улыбнулась:
— Верно что, черт с рогами… — согласилась, но тут же погрозила пальцем. — Мотри-и-и у меня, ботало осиново, на улке не сболтни, а то Гоша с Груней услышат, будут тебе и пироги, и шаньги. Скажут ишо, мать с отцом подучили.
— Ишь, и дите неразумное, а чо выговариват, — бабушка Маланья ласково и согласно глянула на внука.— Немытик он и есть, и боле никто. Хуцан вот ишо, прости Господи… — старуха привычно осенила себя мелким крестом, вознеся слезливый взгляд к божнице.
4
Обидная кличка примазалась к Гоше еще в парнях, приварилась, будто смола, какой блудням-девкам воротья мажут, чтоб неповадно было хвостом трясти; и так уличное прозвище приросло и въелось, что и ножом-косарём не отскоблить, отчего иные деревенские, особо приезжие, и про фамилию-то его, Рыжаков, ведом не ведали, — Хуцан да Хуцан, хотя говорилось это, конечно, позаочь, в глаза же: Георгий Силыч. С Хуцаном тягаться, что осиное гнездо зорить, себе дороже будет.
Хуцанами в деревне на бурятский лад звали баранов, нелегчаных, оставленных при мужичьем достоинстве, чтобы мастерили отаре приплод, покрывая баранух-ярок; недаром и приговорка такая шаталась по деревне: парочка — хуцан да ярочка.
Случилось то еще при старопрежней, царской власти, когда Краснобаевы жили в уездном селе Укыр; это уж потом, когда Укыр чах и в Еравнинское аймачное село выбился Сосново-Озёрск, семейство туда и перекочевало. Так вот, зеленым удальцом, чтобы потешить девок, переметнулся Гоша в Краснобаевский загон, прыгнул с хмельного дуру на овцу-ярочку, с горя и страха заблеявшую таким утробным, истошным ором, что у девок по мягким спинам побежал мороз, и девки заревели в голос, чтоб не галился над овцой. Но Гоша, раздухаренный, уселся половчее, схватил барануху за уши, как за поводья, и поехал, волочась ногами по унавоженному, ископытенному двору; запотряхивал бравыми, смоляными кудерьками, запонукивал, чмокая губами и хлопая коленями по раздутому бараньему брюху, словно и не тихая скотинка волочила его, а нес в заполошном намете халюный конь. Отойдя от первого испуга, девки облокотились на прясла и, костеря дурня, вроде против воли посмеивались, глядючи, как потешает их Гошка-гармонист; а барануха, одуревшая, изойдя в крике, уже с хрипом и сипом тащила Гошку по двору, и шарахались из угла в угол серой волной сбитые в кучу, испуганные овцы.
Девки опять было закричали, чтоб не маял, дурак, скотину, но тут вылетел Ванюшкин дед, Калистрат Краснобаев, и, размахивая березовым дрыном, с налитыми черной кровью глазами кинулся на Гошку:
— У-убью, проклятый каторжанин!..
Лишь чудом унес каторжанин ноги, а Калистрат еще долго разорялся:
— От итит твою налево, а! Чо удумал, а! Нехристь, он нехристь и есть. Верно баят, не родит сокола сова, а такого же совенка, как сама, — тут он помянул и Гошкиного папашу, поселенца, и бестолковую мать, что прижила совенка.
Потом Калистрат Краснобаев еще и старосте пожаловался, а коль и без того у Гошки скопился полный загашник грехов, то вырешил староста архаровцу «березовой каши», чтоб не казаковал на иманухах. И на первом же сходе возле избы-соборни «кашу» и всыпали, перед тем притащив «казака» на расправу чуть не волоком. Ползал Гоха на коленях, елозил в пыли, извивался, яко полоз, повымаливая прощения, но старики не отступались, а домовитые мужики, привычно заломив обалденю руки, повалили на лавку и заголили бледные, худосочные лядвии.
Когда Гошка, бледный, с губами, искусанными до крови, подтягивал порты, молодые парни зубоскалили:
— Хуцан да ярочка — разудала парочка.
Петро Краснобаев, почти годок Гоше, насмешливо обеспокоился:
— Ты, Гоха, случаем, не покрыл нашу ярку? Породу спортил, поди…
Барануха и была покрытая — суягная говорят,— но после того, как хмельной Гошка отгарцевал на ней, выкинула мертвяка.
— Обычай бычий, а ум телячий, — ругнулся напоследок Калистрат Краснобаев.— Одно слово, хуцан.
Староста, мужик не злой, заступился:
— Замужичет, дак, глядишь, и за ум возьмется.
— Твои бы слова да Богу в уши, – безнадежно махнул рукой Калистрат. – Это ежли орел солнце склюет, камень на реке всплывет, свинья на белку залает, тогда, может, Гоха и поумнеет. Ох, наплачемся мы от Рыжаковского сураза, чует мое сердце…
Уковылял Гошка от соборни, поддерживая порты, и с полмесяца не мог толком сесть и от стыда глаз на улицу не казал, накапливая в душе лютую ненависть к старикам и деревенскому миру да особо — к богатому Калистрату, костеря и обзывая того мироедом.
Случай с летами замуравел, подернулся болотной ряской, но прозвище – Хуцан – припеклось на весь Гошкин век, будто выжглось антихристовой звездой на лбу; да и в подтверждение клички, войдя в зрелые лета, хлестал он за шалыми вдовами не чище того же барана-хуцана, высовывающего кончик языка, манящего ярок. Потом и всех ветродуйных мужиков — крутелей белого света, падких до чужих баб, в деревне так и срамили: «Н-но, ишо один выискался… Гоша Хуцан… тоже пошел блукать по ночным пристежкам. Оно и верно баят: в чужую бабу нечистик меду кладет, а в свою жену уксусу льет…»
В старой деревне Гоше Хуцану, конечно, особого развороту не было: девки боялись осрамиться, — кто возьмет замуж, ежели задница черна от дегтя, а бабы, хоть и вдовые, смертного греха боялись; но дело в том, что Гохина зрелость выпала на беспутые и мутные времена, когда зорились крестьянские дворы, а прореженный, отчаянный народишко сбивался в «коммунии», в колхозы, где строгости заметно убавилось.
5
Забежала материна подруга, Варуша Сёмкина… вечно шукала по дворам своего запойного Николу… присела на березовый чурбачек, потом, с муживьей сноровкой завернув из газетки козью ногу, сыпанула туда махры и дымила в открытую печку, слушая, как разоряется бабушка Маланья.
Перемыв косточки Гоше Хуцану, та перекинулась на его родову; и мать, всегда робеющая перед свекрухой, лишь поддакивала, горестно и согласно кивая головой, прицокивая языком и нет-нет да и прижимая к своим коленям маленького Ванюшку, который толмачил, не толмачил, о чем речь, а все слушал, развесив ухи. Так подле больших и вертелся.
— Всё, девти, от семьи пошло, от родовы, – бабушка Маланья неодобрительно покосилась на Варушу Сёмкину, что табакурила, не чище своего мужика Николы. – Какое семя, такое и племя. Ежли крапивно семя, дак… Мой Калистрат, Царство ему Небесно, верно про Гоху говорил: не родит, мол, сокола сова, а такого же пучеглаза, как сама. Так от, девти…
— Наслышана я, тетка Маланья, про Гохину родову,— покивала головой Варуша Сёмкина – Я и мамку его помню, Фису Шунькову.
— Погуливала, чо греха таить, – вспомнила и мать.
— Во-во, – согласилась старуха, – прожила Фиска ни в добре, ни в славе и такого же сыночка спородила на свою бедовую головушку.
Призабыв Боговы слова и жалость, Спасом заповеданную, старуха обозвала Гошу и присевом, и боегоном, и девьим сыном, и суразом — так щедро и нетерпимо величали о досельну пору чадушек, в блуде зачатых; и лютую нетерпимость старухи, если не простить, то можно было понять, и не потому, что говорилось после пьяного Гохиного куража, а потому, что на постаревшем теперь боегоне лежала каиновой печатью тяжкая вина перед всем тутошним православным миром, а значит, и перед старухой. То, что спородился он на свет девьим сыном — это маткин грех и его беда, но была на Гоше еще и вина…
— Она же, деушки, расстрижка была — Анфиска-то, Гохина мать,— наговаривала бабушка Маланья, то сварливо пряча бескровные губы, то распуская их в жалостливых вздохах.— Во сраме, бара, понесла, да так, беспутая, ночной пристежкой и померла, удавилась у коровьей стайке.