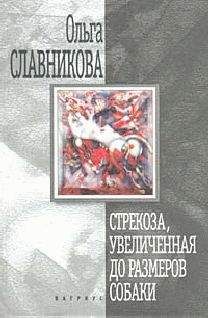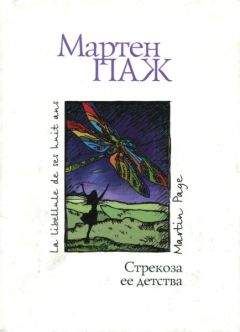На улице чаше, чем в помещении, Софье Андреевне казалось, будто она буквально растворяется в любви, в свою очередь растворенной в стеклянных объемах солнца, и нежной, кисловатой, отдающей окалиной мороси,– от волнения и слабости она точно исчезала совсем и роняла сумку в лужу. Растворенная, уходящая в землю любовь обладала для Софьи Андреевны явственным привкусом смерти. Давным-давно ее первое осознание молодой мужской красоты проснулось именно во время похорон, когда умер соседский Валерка и его с кровати перенесли на стол, странно высокий и странно пустой внизу, между облупленных ножек с натертой башмаками перекладиной. На Валерку надели белую, как бумага, рубаху, неношеный костюм, и если раньше он, мешковатый и застенчивый, сослепу извинявшимся перед всеми косяками, выглядел так, будто его, словно маленького, одевали чужие руки, то теперь, в гробу, костюм сидел как влитой, и Валерка лежал красивый, совершенно взрослый, его хорошо расчесанные светлые волосы полнились будто накрахмаленные, и на осевшем матовом лице было видно, какие у Валерки без очков большие закрытые глаза. Среди своей опухшей и плохо одетой родни (особенно ужасно раскачивалась мать в застиранном платье к в черном, плохо завязанном, беспрестанно распадавшемся платке) Валерка был словно молодой покойный барин среди крепостных крестьян, и все ему по очереди кланялись, медлили около в бессильной и бездумной праздности неволи. Тогда Валерка был для Софьи Андреевны почти что дяденька, и это теперь словно подтверждало ее ощущения девочки в присутствии молодых мужчин, потому что смерть закрепляет все вокруг своим фиксатором и, раз случившись, остается с людьми навсегда.
Однако не только воспоминаниями о том моросящем и тихом, с ужасными громкими звуками, дне объяснялся привкус смерти в томлении Софьи Андреевны. Каким-то образом Валеркины похороны связались у нее с похоронами соседки: Софья Андреевна не хотела, только испугалась, что может связаться, а оно уже, и словно захлопнулась дверь. Толстый седой еврей, теперь уже почти совершенно лысый, будто яичко с приставшим перышком, и с тех пор, как он распоряжался похоронами, изрядно обносившийся, много лет проживал в соседкиной квартире, где, по-видимому, был изначально прописан,– он-то и был виноват. Он не то чтобы хотел свести знакомство с Софьей Андреевной, но как-то все время имел ее в виду. Они никогда не разговаривали, и если полукланялись друг другу, то только на расстоянии, а вблизи отчужденно отводили взгляды, отчего происходили всякие казусы: сцеплялись сумки, что-нибудь шлепалось, вываливалось под ноги, и сосед, предупредительно нырнув, подавал растерянной Софье Андреевне собственную газету. Однако подо всей этой нескладностью и суетой он был в действительности глубоко спокоен. Его очень старые, старше его самого на тысячу лет, глаза цвета переметенного ветром песка смотрели на Софью Андреевну с таким сочувствием, точно и она была больна тою же болезнью, от которой скончалась соседка,– а Софья Андреевна уже не сомневалась, что проклятая ведьма умерла от любви.
Взрослая сонная дочь разочаровывала Софью Андреевну. Пока Катерине Ивановне было семнадцать, двадцать, двадцать один, Софья Андреевна еще могла объяснять свое тоскующее умиление перед молодыми мужчинами тем, что присматривает дочке жениха. Однако скоро и Катерина Ивановна сделалась для них перестарком. Софья Андреевна с раздражением замечала ее брюзгливость, нитяные уголки опущенных губ, жирную кожу на носу, из которого, казалось, можно было выдавливать масло,– и полное презрение к косметике, выражавшееся в неумеренном ее расходе на праздную мазню, тут же, перед зеркалом, вытираемую ватными комьями до сухой синевы. Женское одиночество дочери Софья Андреевна воспринимала как свое несчастье, прежде всего и главным образом относящееся к ней,– это было даже хуже того, что Катерина Ивановна не поступила в институт, такая ненормальность отдавала чем-то непорядочным, едва ли не развращенным.
Впрочем, Катерина Ивановна дважды сдавала в педагогический: что-то учительское, наследственное проявлялось в ней, когда она расхаживала по комнате с учебником, прижатым к груди, строго кивала в такт, мимоходом поворачивая к себе лицом фарфоровые статуэтки. Девчонка действительно старалась учить, губы ее беспрерывно шевелились, и на оклики матери она отвечала только тем, что начинала говорить параграф вслух. Однако в последнюю ночь, сутуло, на пару с лампой, проводимую за столом, что-то с ней происходило, что-то ломалось: она начинала злиться, все отодвигать, падать головой в раскрытые книги; уходя на экзамен, кружила на месте в поисках сумки, медленно кружила, надевая плащ с неуловимым рукавом, топча его подол розовыми пятками. Удивительно, но она, твердая четверочница, экзамены в институт сдавала на тройки или вовсе заваливала (русский устный, что насмерть оскорбляло Софью Андреевну). Домой возвращалась безмолвная, с поднятыми бровями, с тоненькой бьющейся ниткой плача на белом лице; проходя, всюду оставляла сброшенную одежду, тетрадки, мокрый, словно она его топила, слипшийся на спицах зонт – так раненый пачкает кровью, помечает путь,– и бухалась ничком на гладкую, не тронутую со вчерашнего постель.
Только в воспитательных целях Софья Андреевна велела дочери закончить курсы машинописи и поступить на службу до новых экзаменов в вуз. Но Катерине Ивановне неожиданно понравилась высокая «Башкирия» с лязгающей на ходу броней и хрупким, на иголках, внутренним механизмом: как она ровно частила, ловко слезала вниз по строкам и вдруг тяжело переступала, когда Катерина Ивановна кнопкой поднимала клавиатуру, чтобы отбить заглавную букву. Все крепче делались ее пухлявые, разной длины, избалованные кражами пальцы, вес аккуратней становились поначалу мусорные страницы. В отделе научной информации ближайшего НИИ, куда Катерина Ивановна пришла устраиваться на работу, ее ожидала точно такая же «Башкирия», еще более царственная и побитая, с протертыми едва ли не до дыр бляшками букв – и это решило дело. Катерина Ивановна теперь ни на что не хотела менять белесый пенальчик машбюро, тем более что серое здание, похожее на незаконченную стройку, тоже называлось «институт». Катерина Ивановна законно являлась туда по утрам, и ее уже встречала, прыгая в недоснятых рейтузах и недонадетых туфлях, начальница Маргарита Викторовна, или, как она просила обращаться, просто Маргарита. Старше Катерины Ивановны тремя годами, Маргарита сразу взялась ее опекать: расхваливала всем, кто по делу или просто так заглядывал в пенальчик, а тех, в свою очередь, расхваливала ей, так что новым знакомцам при захлебывающемся звуке Маргарит иного молодого, хриплого голоска и сиянии морозного, тоже как бы хриплого солнца на ее разбросанной стеклянной и зеркальной дребедени, было друг к другу буквально не подступиться.
Работу Катерине Ивановне, как старшая по должности и стажу, тоже выдавала Маргарита: всякие доклады, списки лекторов, поздравительные адреса,– каждый раз, получив от нее оригиналы, украшенные хорошенькой, с бантиком, визой начальника отдела, Катерина Ивановна радовалась, что работы много, и чувствовала в кистях приятный позыв к еще не тронутой с утра клавиатуре. По утрам в пенальчике было особенно уютно: в стакане лопотал, надувая крупные пузыри, запрещенный пожарной инспекцией кипятильник, Маргарита, пристроив зеркальце на каретку, красилась «с выражением», с дрожащим солнечным зайцем на вытянутой шейке. Женщины забегали, чтобы без мужчин стянуть шерстяное белье, в веселой толчее разбирали туфли, вставали на каблуки. Дни проходили раз навсегда заведенным порядком; пенальчик был настолько узок, что Катерине Ивановне не удавалось полностью выдвинуть стул, чтобы встать с рабочего места, но именно эта теснота давала чувство прочности положения по контрасту с видимым в окно пустым и голым внутренним двором, где блестели, всякий раз составляя один и тот же простенький узор, цветные крыши «Жигулей» да изредка скатывали с грузовика в подвал чудовищной величины бумажные рулоны, топчущие в грязь свои полуоторванные лоскуты.
С годами Катерина Ивановна изучила этот двор (ни разу в нем не побывав) до малейшей трещины на асфальте, изучила противоположную стену пристроя, где ее раздражала пожарная лестница, не совпадающая счетом перекладин с делениями блочных этажей. У Катерины Ивановны сложилась тайная и нежная любовь к отдельным удобным и длинным словам, которые ей особенно нравилось печатать, к некоторым выражениям через ловкую, как поворот на цыпочках, резвую запятую. Руки Катерины Ивановны словно заговорили на канцелярском, но все же человеческом языке (сильно затормозив ее и без того неразвитую собственную речь), и когда они особенно хорошо разбегались по клавишам, Катерине Ивановне чудилось, будто она, как мечтала в детстве, играет на фортепьяно. Вовсе не из жажды заработка, а только в память о чудесном инструменте, когда-то зеркально сквозившем в соседских дверях, а ныне заваленном бумагами и даже застеленном клеенкой, как обыкновенный стол,– только из желания всегда иметь под руками карликовое его горбатое подобие и, может быть, печатать на нем без музыки слова каких-нибудь песен, Катерина Ивановна захотела брать халтуру на дом и даже условилась с заказчиками о цене. Но Софья Андреевна, при каждом случае обзывавшая дочь Акакием Башмачкиным, решительно не пустила в квартиру портативную машинку «Москва», которую Маргарита одолжила бессрочно и бесплатно и даже притащила лично в один, из тех дождливых, нудных, выходных, когда человек в подъезде неприятен своей смиренной темнотой, запахом мокрой ткани, а освещенный из прихожей, кажется уже непрошено вошедшим в унылый уют бесконечного дня. Кроме того, Софье Андреевне не понравилась улыбка дочериной коллеги, уклончивая и мутная, вызывавшая странный порыв заслониться рукой.