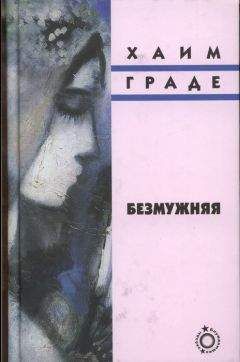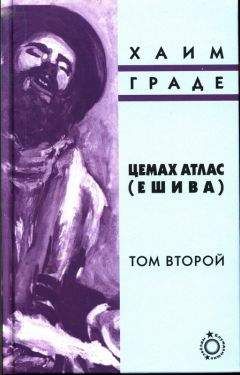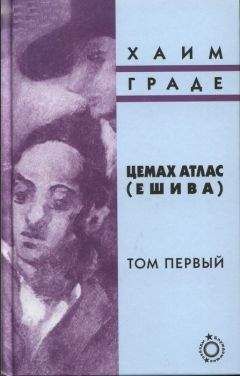После семидневного траура
Всю неделю траура у полоцкого даяна в доме собирался миньян, и соседи по Заречью, приходившие помолиться, торопились радовать его добрыми вестями. Он уже знал, что введен в состав ваада с полным окладом, и прихожане пытались даже выведать у него, останется ли он жить в Заречье или переедет в центр города.
Реб Довид мрачно выслушивал все это и ничего не отвечал.
Днем, когда комната не была занята миньяном, заходили женщины. Раввинша принимала их лежа, одетая, но соседки знали о ее плохом здоровье и не обижались. Они приносили множество пакетов, садились возле раввинши и утешали ее. Она тихо стонала и еще тише благодарила за приношения. Реб Довид с отсутствующим видом сидел в это время на низенькой скамеечке в углу и глядел в маленький томик Талмуда. Но он ни разу не перевернул ни одной страницы и даже, видно, ни строчки не прочитал. Его угрюмое молчание гнало женщин из дома, но и после их ухода он продолжал сидеть в оцепенении, не произнося ни слова.
На исходе недели он неожиданно прервал разговор собравшихся у него прихожан и спросил о злосчастном реб Калмане Мейтесе. Они поспешили ответить, что Калман Мейтес проводит дни траура в квартире покойной жены, где каждый день собирается большой миньян. Он останется там жить, так как сестры агуны не претендуют на наследство. В заработках он нуждаться не будет, домохозяева уже приглашают его красить свои дома. Кто-то из прихожан, чтобы еще больше порадовать раввина, сообщил, что староста Цалье уже не будет больше хозяйничать в синагоге. Он все еще отлеживается после побоев, полученных им, когда его вышвырнули из синагоги, и уж пятая жена, видно, его похоронит. Окружающие стали делать знаки болтуну, чтобы он замолчал: если раввин бежал спасать своего злейшего врага, его может огорчить и то, что побили старого злодея Цалье. Однако реб Довид продолжал сидеть, насупив брови, и ничего не сказал.
Когда прихожане ушли, раввинша хотела было заметить мужу, что он опять накличет на себя несчастья. Эйдл готова была забыть, что ее муж убежал с похорон собственного ребенка, чтобы спасти реб Лейви, потому что этот поступок возвысил его в глазах всей общины. Но если он будет так неприязненно относиться к прихожанам, то они перестанут им интересоваться, а недруги снова воспрянут, — так она хотела сказать, но не произнесла ни слова. Она ощущала его отчужденность, видела, что он стал раздражительным, нетерпеливым, будто вся жизнь ему опостылела.
После дней траура реб Довид стал ходить в синагогу утром и вечером. Возвращался он поздно ночью, окутанный темнотой, словно таща на плечах своих все тени из пустой ночной синагоги. Его даже не огорчало, что Иоселе все еще не ходит в хедер, откуда меламед когда-то его выгнал. Раввинша вела с мужем безмолвную войну. Она молчала и тогда, когда кончились припасы, принесенные соседками. Ею овладело злобное желание увидеть, что же собирается делать ее муж.
Однажды реб Довид вернулся с утренней молитвы лишь после полудня, положил на стол деньги и произнес:
— Это мое жалованье от ваада. Реб Лейви Гурвиц отказался от должности.
По жесту, которым он бросил деньги на стол и тут же отдернул руку, раввинша поняла, как он угнетен тем, что не может последовать примеру реб Лейви и тоже отказаться от должности. Она стиснула зубы, чтобы не спросить, отчего реб Лейви отказался от места.
Реб Довид узнал в вааде о том, что законоучители спорили с реб Лейви, уговаривая его не уходить. Однако в тот же день убиравшая у реб Лейви женщина прибежала к реб Ошер-Аншлу сказать, что его зять упал с криком: «Держите ее, держите ее!» Ему почудилось, что дочь его, которая, как известно, находится в больнице, выбежала нагишом из своей комнаты. Реб Ошер-Аншл и его домочадцы пригласили к реб Лейви врачей, и семья решила: поскольку его одолевают такие болезненные видения, то для его здоровья действительно будет лучше, если он откажется от должности и не будет больше жить в своей квартире.
Реб Довид бродил по комнате и бормотал себе под нос: «Реб Лейви не хочет признать, что строгостью своей ничего не достиг. А так как он и впрямь не желает руководствоваться чувством жалости, он отказался от должности. К тому же он уговорил себя, что я похваляюсь перед ним тем, что перенес гонения, и хочет доказать мне, что тоже может переносить страдания и унижения».
— Не думай, что я последую примеру реб Лейви, я не откажусь от должности, — роняет реб Довид, обращаясь к жене.
— Почему бы тебе не отказаться? Откажись, — смеется раввинша Эйдл и со стоном отворачивается, давая понять, что даже молчаливую войну с ним вести не стоит.
Короткий ответ Эйдл и ее горький смех обезоруживают реб Довида. Он смотрит в сторону кровати и не осмеливается подойти, боится, что она его оттолкнет. Реб Довид ходит по комнате, читает предвечернюю молитву и лишь потом подходит к кровати и спрашивает, не принести ли ей поесть. Эйдл лежит, прижавшись лбом к стене, и не отвечает. Он снова ходит по комнате, порывисто, озабоченно, беспокойно, и вдруг разражается рыданиями. Обратив лицо к потолку, спрятав руки в рукава, он изливает в рыданиях свою боль, которая так долго давила и сжимала его сердце.
— Теперь я знаменит. Мне платят жалованье как городскому законоучителю. Со мной считаются, все чувствуют себя виноватыми передо мной. Но на самом деле виноват я. Я не предполагал, как много несчастий обрушу на голову обездоленной женщины, разрешив ей снова выйти замуж. Она должна была лишить себя жизни, чтобы город принял мою сторону. Я возвысился, стал важным человеком благодаря ей. Я вырос на ее могиле.
— А мне все это мало стоило? — прерывает его с горечью и плачем раввинша. — Это стоило мне жизни моего Мотеле. Ты говоришь, агуна ради тебя покончила с собой? Да ведь ты еще раньше лишил себя жизни из-за нее! Но ради чего я-то должна была похоронить своего ребенка? Тебе жаль агуну. А жену и единственного сына, который у тебя остался, тебе не жаль? Смотри, как бы тебе не пришлось сокрушаться из-за жены и сына так же, как сейчас ты сокрушаешься из-за агуны!
Раввинша снова поворачивается к стене и всхлипывает, плечи ее вздрагивают, а реб Довид не знает, что ему предпринять. Домой возвращается Иоселе, замерзший, голодный, уставший от беготни по улицам. Отец радуется его приходу, гладит по голове, велит сесть за стол и поесть. Иоселе удивлен тем, что мать на него не глядит, но еще больше его удивляет то, что отец, в последнее время его не замечавший, уговаривает его поесть и укладывает в постель. Иоселе понимает, что между отцом и матерью что-то произошло и ему следует вести себя тихо. Он раздевается, читает «Шма, Исраэль»[122] и укрывается с головой. Реб Довид присаживается на край постели жены, а она, точно спиной почувствовав его отцовскую заботу об их мальчике, поворачивает к мужу свое измученное и просветлевшее лицо. Она гладит его худое лицо, запавшие щеки и бороду, ставшую за последние месяцы более длинной, густой и совершенно седой.
— Ты хорошо сделал, что не ушел сегодня в синагогу и не оставил меня одну, — прижимается она к нему. — У меня тоже душа болит за агуну. Она бегала за доктором для нашего ребенка, одолжила нам денег, ходила на базар за покупками, а я ее выгнала. Сердце подсказывало мне, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, что заставило ее ударить перекупщика бутылкой по голове, а потом повеситься. Но я не могу простить себе, что поверила ему, перекупщику, будто она послала его к нам, чтобы ты развел ее с мужем. Ты говоришь, что из-за нас она, такая молодая, погибла. Бог свидетель, я не хотела избавления такой ценой! — снова заходится плачем раввинша.
Муж поправляет ей подушку и горестно молчит. Она еще ближе придвигается к нему и прикрывает его краем платка, как делает, когда возле нее ложится Иоселе.
— Довид, раввин из двора Шлоймы Киссина отказался от должности из-за тебя?
— Из-за меня.
— Довид, я глупая женщина, но прошу тебя, помирись с ним. Город теперь на твоей стороне, и ты можешь заключить мир с реб Лейви. Мне очень жаль его. Что он станет делать на старости лет без должности?
— Он со мной не помирится именно потому, что город за меня. Он сам предложил бы мир, если бы я объявил, что агуне нельзя было выходить замуж. Но я ни за что в жизни не скажу, что она была мужней женой и не имела права выйти за второго мужа. В моих глазах она праведница.
— Да, она была хорошей женщиной, — вздыхает раввинша и снова замолкает.
Немного позже реб Довид стоял в углу, читая вечернюю молитву. Он произносил Шмоне эсре, губы шептали благословения, но из сердца рвалась плачем собственная мольба: «Владыка мира, попроси за меня прощения у агуны! Будь свидетелем, что я хотел облегчить ей жизнь, я хотел, чтобы дщерь иудейская не полагала, будто Учение Твое — безжалостное Учение. Попроси у нее прощения за меня, за мою жену, за то, что мы хоть и недолго, но верили всему дурному, что говорили о ней. А если она не захочет простить нас, напомни ей, что на том же кладбище, где она лежит, есть и свежая могилка нашего ребенка…»