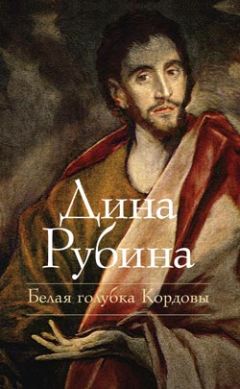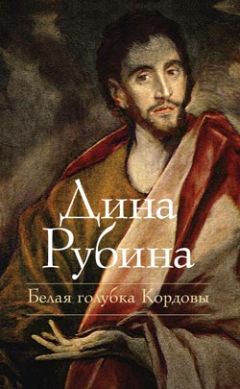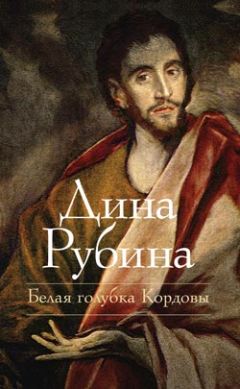Глава восьмая
Хм, пират… Что это ему в голову взбрело, да еще во сне? Смешное что-то снилось, и грустное, связанное с… дядькой. Да: вроде умирает дядя Сёма, и эти желтоватые длинные космы на подушке, как высохшие водоросли, – почему-то он не давал их стричь, – выглядят ужасно. Руки-плети, со вздутыми венами, серыми и твердыми, будто в них не кровь, а цемент.
– Зюня… – вроде бы говорит он с трудом, с закрытыми глазами, – ребенок должен трудиться неважно что… а не вот это вот, как дед твоего деда, пройдоха и бандит. И кличка у него была «Испанец», ну куда это годится, Зюня… Старый человек ходит с кличкой, как пират? Куда это годится? И что он оставил семье, Зюня, а? Вот эту румку, ты видал… – и шарит клешней дядя Сёма вокруг себя (шепот тети Лиды над плечом: смотри, он уже обирает себя, обирает…) и вслепую достает из складок одеяла – …о-о-о, уже понятно что, уже понятно, – Захар подается вперед, чтобы выхватить у того из руки чудом найденный кубок, который, оказывается, вовсе не пропал, а – во сне мгновенно выстраивается причудливая цепочка обнаружения-спасения-и-доставки кубка в Винницу, – а хранился эти годы у дяди! И тут, как всегда, наваливаются смертельные тягость и бред, и тянется рука, преодолевая тугие воздушные препоны… хватает теплый (в одеяле согрет) серебряный кубок и… вот сейчас, сейчас он прочитает наконец танцующие хороводом буквы! И читает: «А у Таньки-то второй муж – еврей!»
Он открыл глаза…
Полежал, прислушиваясь к звукам ночной иерусалимской улицы. Дальний гортанный хохот загулявшего молодняка… Вот скороговоркой прорычал что-то мотоцикл, шурхнула машина и хлопнула дверца, разбудив до рассвета какую-то беспокойную птаху в ближней листве: сверк, сверк, зью-и-и-ить!
Как жаль, что он ничего не понимает в птицах, и как смешно при этом выглядит его пристрастие к изображению белой голубки.
Рядом спала Ирина, завернувшись в одеяло. Ну, куда это годится, усмехаясь, подумал он словами дяди Сёмы, куда это годится: спать рядом с женщиной, не чуя ее тепла. Припомнил горячее сердцебиение в обеих грудках Пилар и подумал, что на днях вышлет ей денег – теперь уже можно.
Да… а второй муж у Таньки и в самом деле был евреем и вывез ее с тетей Лидой (и умирающим дядей Сёмой) в Америку, в Нью-Йорк. Там все они, как водится, преуспели, кроме дяди Сёмы, который умер спустя три недели в Бруклинском госпитале.
Бывая в Нью-Йорке, Захар несколько раз навещал тетю Лиду в очень приличном доме для престарелых. Она была еще крепка и неуемна, подводила его к огромному панорамному окну с видом чуть ли не на весь космический Манхеттен, блистающий небесами в зеркальных гранях небоскребов, и говорила: «Ты только глянь, как отстроилась Винница!».
Между прочим, ее неплохо подлечили – насчет китайцев, которых среди медперсонала клиники было предостаточно, и на которых тетка не обращала ни малейшего внимания.
Он бесшумно поднялся и направился в душ: еще минут десять, ну, двадцать… рассвет унесет предутреннюю тоску. Нет, кофе здесь пить не станем. Кофе – это уже ритуал – там, у себя в мастерской; и Чико является ровно к восьми: вспрыгнет на забор и орет оттуда разбойным басом.
Уже одетый, он склонился над Ириной и стал шептать в запорошенное русыми волосами ухо страстную шепелявую абракадабру, мешая иврит, русский, испанский…
– Запри дверь, когда уйдешь, – не выныривая, пробормотала она.
Что и было неукоснительно сделано.
Сегодня длинный рваный день: в двенадцать в университете две лекции подряд, там же встреча с Иланом в четыре… Но обрамлен будет этот день работой над Святым Бенедиктом… – иначе он уже картину и не называл, с того дня, когда, выехав летним утром с фермы Марио, позвонил Бассо и договорился о встрече, на которую выделил два часа.
* * *
– Почему ты всегда пролетом, проскоком? – недовольно бурчал тот. – Могли бы сегодня пойти в одно интересное место, тут недалеко: знаешь, театр – не театр, а что-то вроде такого действа, с масками из воска, которые они меняют по ходу представления, и у тебя возникает полное ощущение, что…
– Увы, поздно вечером я улетаю.
– Ну тебя к чертям, прохвост.
Они встретились eAsino Cotto, уютном ресторане-гроте, в Трастевере, районе, не затасканном туристами; там еще встречаются маленькие таверны с аппетитной римской кухней. И освещение здесь было подходящим – приглушенный желтоватый свет под арочными сводами полуподвала.
Подождав, когда отойдет принявший заказ официант, Кордовин достал и молча выложил на стол несколько разнеплановых снимков картины… Бассо принялся их так же молча рассматривать, страдальчески морщась от недостатка света, то отодвигая фотографию подальше, то поднося к самым глазам. Наконец снял очки в дорогой и очень модной синей оправе (интересно: что ж, а красного джемпера уже и не надень, или у него дюжина разноцветных оправ?) и принялся исследовать одну из фотографий чуть ли не кончиком носа. Без очков он был очень похож: на Марио, тем более, что начал стремительно седеть. Кордовин предложил:
– Попроси, чтоб лампу принесли.
– В самом деле, – пробормотал Бассо.
И лампу им скоро принесли. После чего еще минут десять Бассо в молчании рассматривал все хозяйство, в том числе, пространно изложенные на фирменных бланках известной европейской лаборатории, результаты технологической экспертизы. Кордовин в это время рассказывал – мягко прихватывая из плошки маслины и отправляя их в рот – историю находки, со всеми подробностями: представляешь, если б мне в ту минуту не приспичило отлить?
– Ну, и ты думаешь…?
– Полагаю, это он…
Бассо в сомнении покачал головой:
– Вероятнее всего, мастерская.
– Нет! – Кордовин откинулся к спинке стула. – Не мастерская!.. Слишком напоминает его ранние вещи, какого-нибудь святого Бенедикта, – и порывисто подался вперед, упершись обеими ладонями в стол. – А даже если мастерская? В любом случае, его кисть здесь прошлась. Это жеясно, как день… Нояуверен, чтохолст – взгляни ещераз на выводы экспертизы – записан Самим. Слишком широкая, слишком свободная – его – манера в подмалевке.
– Да, но УФ показывает разновременность участков красочного слоя.
– Незначительную. Бог ты мой! Разве не бывает так, что, начав картину, художник оставляет ее и возвращается к ней спустя годы? Рентгенограмма-то указывает на единую индивидуальную манеру.
Им принесли заказ, но несколько минут ни тот, ни другой не притрагивались к еде. Кордовину казалось, что его приятель озабочен какой-то внезапной мыслью…
Наконец Бассо отложил фотографии и потянулся к хлебу.
– Заккарйя… Ты хочешь оставить его у себя? – заинтересованно спросил он, кивая на снимки.
– Неуверен. Признаться, у меня были кое-какие, весьма затратные планы… В то же время, не хотелось бы впопыхах загонять это полотно какому-нибудь аравийскому красавцу в смирительной рубашке поверх кальсон.
Бассо усмехнулся:
– Кстати, скоро в Абу Даби откроют филиалы «Лувра» и «Гуггенхайма»…
– Тем более не хочу…
Минуты три они ели в молчании. Несколько раз Бассо пальцем придвигал к себе ту или другую фотографию, продолжая ожесточенно жевать, словно прожевывал какие-то свои напряженные мысли.
– А почему, – наконец произнес он, – с какой стати ты решил, что это – святой Бенедикт? Атрибутика иконографии святого Бенедикта, это – помимо аббатского жезла – розги, ворон с куском хлеба в клюве и кубок, обвитый змеей.
– Возможно, у кого другого, но не у Трека, – упрямо заметил Кордовин, и сам этому своему упрямству подивился – интересно, чего это он уперся, какая разница, как этого парня назвать! – Вспомни его святого Бенедикта в Нрадо: простая черная сутана, жезл – ничего боле… Кроме того: картина в таком состоянии, что полное изображение покажет только расчистка.
Бассо промолчал, задумчиво доедая… Когда унесли приборы, он достал мобильный и, бормотнув извинение, набрал номер… Кордовин недоумевал – отчего Бассо так напрягся, что за мысли у того возникли в связи с картиной, и к чему вся эта идиотская конспирация: например, позвонив Луке Анццани, Бассо не обратился к тому по имени (а то, что это Лука, эксперт дирекции музеев Ватикана, мог понять кто угодно: тот говорил даже не тенором, а фальцетом, и этот фальцет бойко звучал сейчас в окружности, по меньшей мере, трех столиков).
Они говорили по-итальянски. Бассо, привыкший общаться с Кордовиным по-английски, явно недооценивал его языковые способности, что проявлялись не столько в умении воспринимать на слух незнакомый язык, сколько в мгновенном воспроизведении смысла целой фразы по двум-трем понятным словам. Однако кроме имени святого Бенедикта Захар никак не мог ухватить смысл разговора, из чего заключил, что Бассо с Лукой говорят иносказаниями. Например, несколько раз упомянут был некий «старик», и один раз Лука произнес нечто вроде – «старик совсем плох».