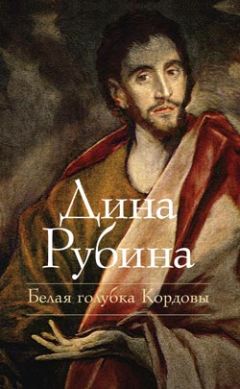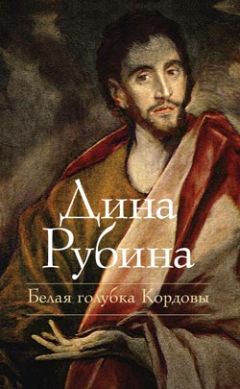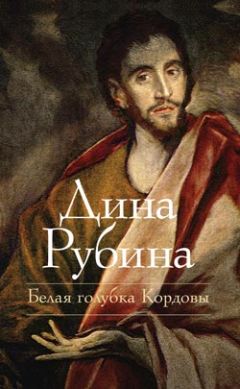Наконец Бассо отключил телефон и, приступая к кофе, спросил безмятежным тоном, который насторожил Кордовина гораздо больше всей их конспирации, – не хочет ли Заккарйя оставить ему на всякий случай всю эту штуку – у тебя ведь есть еще копии, конечно?
Конечно, отчего и не оставить, подумал Кордовин. Вот уж, собираясь на эту встречу с Бассо, он совсем не держал в голове собрание Ватикана. Пинакотека давно не приобретает картин – своих фондов достаточно, да и подношения от дарителей-завещателей поступают исправно.
– Нет, пожалуй, – он улыбнулся и расслабленно откинулся к спинке стула. – Эх, какой кофе! Но если хочешь знать, лучший в мире кофе, все-таки, варят наши бедуины. Когда ты, наконец, соберешься ко мне…
– С-сук-кин сын! – перебил его Бассо. – Стронцо! Шпион Моссада! Говори, что у тебя на уме?
Захар расхохотался и взглянул ему прямо в глаза.
– Да просто расхотелось вести торговые дела. Брось это, Бассо! Черт возьми, мы сидим тут больше часа, а ты еще ничего не рассказал о себе. Мы сколько же не виделись? Года полтора?
– Ладно! – Бассо хлопнул ладонью по столу, словно отсекая какую-то свою мысль, подозвал официанта, расплатился и молчал все время, пока Кордовин – не спеша и с явным удовольствием – допивал свой кофе. А тот не торопился. Было еще время поговорить…
– Я отвезу тебя в аэропорт, – сказал Бассо. – Не опоздаешь. Но я хочу, чтобы ты встретился с Лукой.
– С Луко-ой? – приятно удивился Кордовин. – Сто лет его не видал. Но как же он отлучится – у него ведь там старик совсем плох… – эти слова он проговорил по-итальянски, как слышал в трубке, с интонацией Луки.
И элегантный спокойный Бассо вдруг дернулся и неожиданно, не по теме раздраженно бросил: «Помолчи!», – зыркнув по сторонам.
После чего они, как по команде, поднялись и вышли на воздух. Так-то оно лучше, подумал Кордовин.
Лука приехал прямо в аэропорт – он жил неподалеку, – и в тамошнем буфете, стоя втроем за высоким круглым столиком (как, бывало, дядя Сёма с друзьями, после баньки), эти трое поговорили.
Да, лет двадцать уже, а то и тридцать пинакотека не приобретает картин. Тем более что в VII зале уже есть один святой Бенедикт работы Перуджино. Был бы у тебя Христос или Богоматерь – еще можно было бы о чем-то говорить. Покупать же второе изображение одного и того же святого пинакотека не станет – этот негласный принцип соблюдается с самого начала. Но Эль Треко… тут есть некоторый нюанс. Дело в том, что его произведений в пинакотеке нет. Вернее, были, были, но являлись частью коллекции современного религиозного искусства, той, что составлена по указанию папы Павла VI. Коллекция и правда вполне современная: Матисс, Роден, Кандинский, Шагал, Дали, но в той же компании… Эль Треко, который, как известно, покинул сей мир в начале XVIIвека… Такой вот интересный наш современник…
Странно? Нет, не странно. Дело в том, что данная коллекция размещена в апартаментах Борджиа. А к этим апартаментам относятся и папская спальня и сокровищница Ватикана. И допуск в эту часть помещений есть у считаных людей…
Иными словами, Эль Греко ценится в Ватикане столь высоко, что работы его хранятся в святая святых…
За соседним столиком пили кофе двое, парень и девушка – по виду странствующие израильские студенты. Он – долговязый, как-то нелепо сложенный, с узкими тощими плечами. Она, наоборот, ладная, крепенькая, бритая наголо, с рожками, скрученными из двух оставленных надо лбом прядок, – весело строгала язычком шершавые стружки иврита… У обоих за спинами висели полупустые и странно оттянутые книзу рюкзаки. Говорили они о совершенной чепухе, и то, как остро перескакивали глазки девушки с одного лица на другое, и то, каким медленным пристальным оглядом панорамировал помещение долговязый, совсем не вязалось с тем вздором, что оба весело несли…
Захар был знаком с обоими – через Илана, который в свое время налетал с «Эль-Алем» приличную кругосветную веревочку. Оба – первоклассные снайперы, из спецназа, что негласно сопровождают рейсы компании «Эль-Аль». И студенческие потрепанные их рюкзачки были оттянуты весьма специфическим грузом.
На самом деле, думал Захар с легкой ностальгической грустью, – как немного, в сущности, типов внешности на земле. Скажем, Лука в своих модных мягких брюках и безукоризненно сидящем поверх рубашки лиловом кашемировом джемпере, со своей ухоженной шевелюрой цвета «перец с солью» и обязательной трехдевной щетиной типажно очень напоминает дядю Шайку, драчуна и труса… А изысканный Бассо в замшевой курточке и твидовом кепи очень похож: на Солонина, учителя в винницкой художественной школе, того, что рассказывал байки о Сурикове и гундосил: «Ты плох-та не дела-ай, плох-та само получится…» Нет, думал он грустно, в то же время принимая самое оживленное участие в разговоре, нет никаких народов… и стран никаких нет, и религий. Есть только люди, вот эти, я с детства их знаю…
И поскольку он всегда слушался первого импульса и действительно знал этих людей с детства, то проговорил, спокойно улыбаясь:
– Вот что, ребята. Мне пора на посадку. Сладится сделка или нет… просто знайте: по три процента комиссионных – каждому.
* * *
Так увлеченно и тревожно, так страстно, как об этой картине, он не думал ни об одной из своих женщин. И это было странно: ее провенанс и результаты всесторонней технологической экспертизы были в безупречном порядке. Сейчас, после того как он завершил ее преображение, никто на свете никогда не усомнится в авторстве толедского мастера…
Кстати, в тот же вечер в аэропорту Лука предложил передать полотно на реставрацию в мастерские Ватикана. Послушай, Заккарйя, мы можем все оформить официально, и тебе это ничего не будет стоить. Прикинь серьезно: деньги немалые, сам знаешь… Нет, сказал он, у меня есть отменный реставратор, которому я доверяю полностью. Что, спросил Бассо, криво усмехаясь, лучший, чем реставраторы музеев Ватикана? И твердо улыбнувшись тому в лицо, Кордовин ответил:
– Не хуже!
– Когда, думаешь, все будет готово? – спросил Лука, помолчав.
– Месяца полтора, два…
– Хотелось бы ускорить… – озабоченно проговорил Лука, и они с Бассо переглянулись.
Старик совсем плох? – подумал Кордовин, и вдруг в секунду озарило: что за старик. Вероятно, и в самом деле – плох, понял он, – годы, годы… Но какое отношение его найденная в Толедо картина имеет к дряхлому понтифику – так и не понял.
* * *
Вопреки своему обещанию ускорить процесс реставрации, он не торопился, и все необходимые действия совершал с необходимыми интервалами во времени: укрепил красочный слой, продублировал картину на новый холст, натянул на новый реставрационный подрамник, подвел грунт в места утрат, затем удалил поверхностные загрязнения и пожелтевший лак. С особым тщанием реконструировал утраченные фрагменты, после чего нанес новый лак – реставрационный.
Как он любил этот этап – самый сложный этап работы, – когда уже подсохли тонировки и надо вновь покрыть картину лаком, да «не смахнуть» тонировочный слой, а распылять вновь и вновь, постепенно «нагоняя» и выравнивая лак. Это всегда похоже на нагнетание ласки в любви, когда всё внутри дрожит, как натянутая тетива, в абсолютной готовности вступить во владения… но ты всё медлишь и медлишь до совершенного пика желания, до почти непереносимой его остроты.
Много лет назад, в самом начале одиночества, прежде чем одному приступить к той работе, которую они всегда делали вдвоем, еще неуверенный в себе, он мысленно спрашивал у Андрюши: – ты это сможешь) – И если тот беззвучно подавал ему знак: – смогу! – решался на сложные случаи реставрации. Хотя в последние годы уже никогда не тревожил Андрюшу по таким пустякам, просто знал: тот сможет всё.
Что ж его так беспокоит? Неужто обнаруженный Гербертом кинжал в рентгенограмме картины? Да плевать на кинжал, какая разница, что художник делает на уровне подмалевка: замышляет одно, а в процессе работы часто выходит другое… Да, но отчего – как верно заметил Герберт – этот святой глядит с таким странно непреклонным, даже отпетым выражением в глазах? Менять же в картине что-то серьезно, нарушая ее временную целостность, было бы грубейшей ошибкой.
Он вновь мысленно пробежал – минута за минутой – весь тугой, как сжатая пружина, день, проведенный у Герберта в Амстердаме, в Центральной исследовательской лаборатории, что на Gabriel Metsustraat, рядом с Музейной площадью.