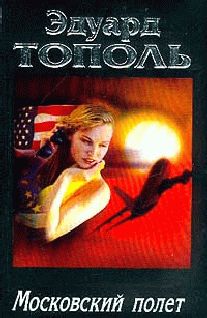Я оцепенел – я понял, что сейчас стальные наручники защелкнутся на моих руках…
…Черная пантера прыгнула мне на грудь, ее когти впились мне в ребра, и кровь брызнула из моих ран. А когда я оторвал эту кошку-пантеру от себя и проснулся, Лиза – в ночном халате – стояла возле моей кровати.
– В чем дело? – удивился я, потому что она никогда не приходила по ночам в мою спальню.
– Ты кричал во сне, я тебя разбудила, – сказала Лиза. – Тебе что-то снилось? – Ничего…
Она повернулась и ушла, закрыв за собой дверь…
Тут поезд тронулся, за окном купе поплыл вокзальный перрон.
И вдруг из коридора – совсем рядом – послышалось по-английски:
– O'kay, we have to go! You'll find it [Ладно, мы должны идти. Найдете сами]!… – и снова по-русски: – Коля, быстрей!
За дверью, у которой я сидел, прогремели мужские шаги. Они прогремели мимо, к выходу из вагона. И тут же, за окном вагона, на перроне, я увидел две мужские фигуры, исчезающие в темноте платформы.
Я, ни жив ни мертв, осторожно выглянул из купе и увидел в коридоре молодую красивую блондинку лет 25-ти.
Держа в руке явно не советский кожаный баул, она растерянно озиралась и беспомощно лепетала по-английски:
– Where is my seat? Where is my seat? Does anybody speak English? Or French? Oh, God, help me, please [Где же мое место? Кто-нибудь говорит тут по-английски? Или по-французски? О Боже, помоги мне]!
И тут я сразу понял, какой я дерьмовый писатель. Все, что в романе «Атака на Швецию» я выдумал про эмигранта, вернувшегося в СССР, – потные очереди в кассовых залах, пиво и пирожки с капустой в купе – все это плоско и банально по сравнению с этой голливудской ситуацией: единственный пассажир, который понимает по-английски и может помочь этой роскошной блондинке найти ее место – я, американский шпион. Но если я заговорю по-английски, я выдам себя. Ведь так не бывает в жизни, так не бывает, это нереально: роскошная блондинка-иностранка в русском вагоне ищет свое место как раз рядом со мной! Это провокация, это ловушка, чтобы втянуть меня в разговор по-английски и разоблачить!
Но у этой блондинки такой растерянный вид! А поезд идет, поезд уже идет, вытягивается из Ленинграда! И двое ее провожающих остались далеко на перроне… К чертям! – говорю я себе и выхожу в коридор: – Сап I help you [Я могу вам помочь]?
Через двадцать минут мы сидим с ней в пустом и уже закрытом вагоне-ресторане (за три магнитофонные кассеты можно в СССР открыть даже закрытый ресторан). Полин оказалась француженкой, готовит издание каталогов Эрмитажа в Париже, Лондоне и Нью-Йорке и завтра улетает домой, мечтая на прощанье погулять по Красной площади. А я не могу сказать ей, что я американец, и назначить свидание в Париже или Нью-Йорке – рядом с нами постоянно торчит сторож вагона-ресторана, он в упор пялится на нас своими любопытными глазами, ему дико интересно слушать нерусскую речь. Да и я еще не верю до конца в то, что это не ловушка, и продолжаю постыдно играть самого себя двенадцатилетней давности – советского кинорежиссера. Хотя в Париже опубликовано четыре моих романа.
И так мы говорим ни о чем до двух часов ночи, пьем минеральную воду «Боржоми» и обмениваемся адресами. Полин дает мне свой парижский адрес, а я ей, как последний лгун, – свой бывший московский.
А утром в 7.20 поезд приходить Москву, я везу Полин в такси на Красную площадь, говорю «Бон вояж!» и приказываю водителю:
– А теперь на юго-восток. Вторая Кабельная, дом 28. За скорость плачу вдвойне.
Был жаркий июль, я жил под Москвой, в Доме творчества Союза кинематографистов. Тогда это было нечто вроде элитного санатория, попасть в который могли только киносценаристы, режиссеры, операторы и художники кино. Говорят, что этот Дом творчества – большой двухэтажный особняк, сохранившийся с дореволюционных времен, и парк над Клязьмой-рекой подарил советским кинематографистам лично товарищ Сталин в 1936 году. Сталин считал, что здесь, в лесной тишине и немыслимом по советским стандартам комфорте (коттеджи, столовая, кинозал, биллирдная и библиотека), советские кинематографисты будут создавать новые шедевры социалистического реализма, которые еще больше прославят советский строй.
Я представляю читателю полную свободу для фантазий на тему, что именно происходило в этом легендарном Доме творчества с 1936 по 1967 год, то есть до того, как я попал туда впервые. С 1967 по 1978 я жил там регулярно по нескольку месяцев в году и, попав на Запад, все собирался написать книгу о советских кинозвездах, которые были моими соседями, партнерами по биллиарду и собутыльниками в шумных и тихих ночных выпивках. В доносах, которые приходили потом в правление Союза кинематографистов, милицию и райком партии, эти вечеринки почему-то назывались «оргиями». Но с годами и эта книга-блондинка ушла от меня в зыбкую перспективу прошлого, оставив в памяти только несколько эпизодов, не имеющих к оргиям никакого отношения, и тем не менее сияющих, как «живые картинки» в «волшебном фонаре» моего отца.
Представьте себе теплый июльский день, чистый лесной подмосковный воздух, старый и запущенный парк с узкими дорожками и небольшой, на три комнатки и веранду, коттедж на берегу узкой Клязьмы. На залитой закатным солнцем веранде сидит на корточках молодой советский кинорежиссер Вадим Плоткин и, громко ругаясь матом, кормит крохотных птенцов-воронят. Две недели назад, после сильной летней грозы, я услышал за окном своего коттеджа вороний крик – и не просто громкий, а какой-то истошный, надрывный. Я вышел из коттеджа и увидел, что по высокой мокрой траве медленно, как в рапиде, крадется к старому дубу матерый кот Василий, проживающий в столовой Дома творчества. А на кота, прямо ему на голову, с дикими криками пикируют две вороны, тут же взлетают, возвращаются и пикируют снова, крича. Но кот словно не видит их и не слышит. Плавно поднимая бесшумные лапы и вытянув вперед свою тигриную голову, он целенаправленно идет по росистой траве. «Птенцы!» – понял я и поспешил наперерез Василию. Он увидел меня и сел, делая вид, что ничего плохого не имел в виду. Я прошел вперед и увидел в траве воронье гнездо, которое ветер сорвал с высокого старого дуба. Рядом с гнездом лежали два крохотных вороненка, разметав по земле свои бессильные крылышки. Я нагнулся, взял их на руки и… Господи, что тут началось! Взрослые вороны, которые только что спасли своих детей от кота, ринулись на меня. Они подлетали прямо к моему лицу, широко распахивали клювы и орали свои вороньи проклятья. А когда я понес спасенных воронят в коттедж, они стали пикировать мне наголову, роняя в меня маленькие бомбочки сухих веток и еловых шишек Я разозлился:
– Нате! Возьмите! – сказал я и протянул им воронят. Но они, конечно, не могли поднять воронят на своих крыльях, а птенцы были еще слишком малы, чтобы летать. Да что там летать! Оказалось, что они и кушать-то сами не могут! Я поселил их на веранде коттеджа, положил перед ними блюдце с водой и второе блюдце с накрошенным хлебом и мелкими кусочками котлеты, но они, два черненьких, как угли, комочка, тупо сидели в углу и бессмысленно зырились на мир своими крохотными бусинками глаз. Так прошел день и два дня – мои воронята не притронулись к еде. А их отчаянные родители дежурили на деревьях возле моего коттеджа и, стоило мне выйти из него, атаковали меня с истошными криками и очередным шквалом шишек и сухих сучков.
На третий день я понял, что если не накормлю воронят силком, они сдохнут. Я присел перед ними на корточки, двумя пальцами взял в щепоть кусочек хлеба, а третьим, указательным, стал бить одного из них по клюву, приговаривая: – Открой клюв, негодяй! Открой, твою мать! Через какое-то время этот крохотный вороненок все-таки разозлился и открыл клюв, чтобы тяпнуть меня за палец. И в тот же миг я опустил хлеб в его красное и узкое, как наперсток, горло.
Так я научился кормить воронят. Я бил их пальцем по клювам, громко ругал русским матом и опускал в их красные глотки кусочки хлеба, котлеты, сыра.
И в тот теплый июльский день я был как раз в самом разгаре этой «творческой» работы, когда услышал у себя за спиной Анин смех и слова: – Собака! Тебе не стыдно бить животных? Я оглянулся.
Аня стояла в двери веранды, слизывала языком шоколадное «эскимо», а закатное солнце, слепя мне глаза, пушилось в ее льняных волосах и пронизывало ее легко и короткое летнее платье. Это был Куинджи, Коро, Мане, Дега – только они, вчетвером, могли бы написать такую картину, полную солнца, лесной тишины, неги и трепета.
– Заткнись, – сказал я Ане через плечо. – Лучше дай кусочек шоколада для вороненка.
Она отломила от мороженного пластинку шоколада и протянула мне. Я разломил пластинку на два маленьких, как ноготь, кусочка и опустил шоколад в глотки моих уже чуть подросших воронят. И в тот же миг – буквально! – они оба уронили головы и уснули.
– Негодяйка, ты отравила моих воронят! – закричал я и поцеловал Аню в холодные и сладкие от мороженого губы.