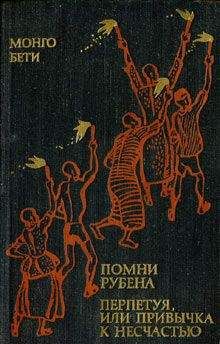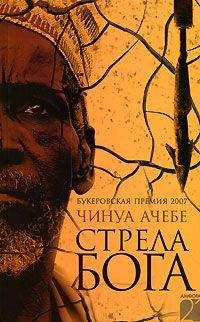— И у Джо тоже! — воскликнул Мор-Замба. — Мы с ним решили не расставаться, он поклялся. Правда, Джо?
— Еще бы! — подтвердил Жонглер.
— Возвращаясь в Экумдум, — принялся наставлять их Ураган-Вьет, — постарайтесь идти пешком, а днем избегайте больших дорог. Не соглашайтесь ни на какую проверку, кто бы ее ни производил. Никогда не ставьте себя в такое положение, при котором вам придется перед кем-то оправдываться. Вы умеете обращаться с винтовкой? Нет? Ну ничего. Сейчас я вам сам покажу, как надо действовать. Надеюсь, что вам дадут два карабина, но тогда только один будет с оптическим прицелом. В случае опасности стреляйте сначала из него, так будет вернее. Если в Экумдуме вам удастся завладеть винчестером Ван ден Риттера или его преемника — а я вам советую это сделать, — не пытайтесь пускать его в ход или прибегайте к нему только в случае крайней необходимости: это очень опасное оружие. Достаточно припугнуть: вы не представляете, чего можно добиться, просто-напросто направив на кого-нибудь хороший карабин. Перед самым вашим уходом я раздобуду вам дорожную аптечку. Подумай только, Мор-Замба, скольким страдальцам в Экумдуме ты сумеешь помочь, имея простую пачку хинина, ты ведь работал фельдшером среди заключенных. А имея аптечку, вы завоюете немало материнских сердец.
Босоногий парнишка в шортах защитного цвета подал ему карабин с оптическим прицелом. Ураган-Вьет склонился к нему и почти отеческим тоном что-то сказал на ухо, а потом обернулся к обоим друзьям и принялся объяснять, как действует длинноствольный карабин двадцать второго калибра. Со всех сторон слышалось лязганье и щелканье: это в соседних комнатах подростки учились обращаться с оружием — не иначе как с автоматами, подумал Жонглер. Время от времени ведущие туда двери на мгновение приоткрывались и снова со стуком захлопывались. Ураган-Вьет терпеливо объяснял друзьям, как разобрать винтовку, чтобы она не только поместилась в вещевом мешке, но и не была заметна.
Тот же юноша появился с другим карабином, на этот раз без оптического прицела, и протянул его Мор-Замбе.
— Это точно такое же оружие, — сказал вождь восставших. — Но запомните хорошенько: даже с ним никогда не нужно лезть на рожон. Будьте осторожны. А если придется стрелять, то, как я вам уже говорил, стреляйте только наверняка и поэтому пользуйтесь сначала карабином с оптическим прицелом. А теперь нам пора прощаться. Я жду, когда немного утихнет гроза, сейчас в двух шагах ничего не видно.
Над Кола-Колой и в самом деле уже четверть часа бушевал чудовищный ливень.
— Когда-нибудь, если удастся, я загляну к вам полюбоваться вашей работой, — пообещал Ураган-Вьет.
— Но когда же? Скажи нам, когда мы увидимся? — стал упрашивать Джо Жонглер.
— Через десять лет… Через двадцать… Через тридцать… Кто знает? Самое главное, ребята, — это действовать без спешки. Не торопитесь, делайте как следует то, за что взялись, и не думайте о времени. Время для нас ничего не значит. Африка была в оковах, можно сказать, целую вечность, и рано или поздно она будет свободной. Наша борьба будет долгой, очень долгой. Все, что вы видите сейчас в Кола-Коле и во всей колонии, — это лишь невинная прелюдия. Пройдет несколько лет, а может быть, месяцев, и, даже если будет уничтожена Кола-Кола и погибнут тысячи и тысячи наших, в том числе женщины и дети, найдутся люди, которые с улыбкой вспомнят об этих первых шагах — так вспоминают о невинных играх детства.
Помни Рубена.
Перпетуя, или привычка к несчастью
Два раза в год нам дают только полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убежать, ему отрубают ногу…
…Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар…
ВольтерPERPÉTUE ET L'HABITUDE DU MALHEUR
Paris 1974
Перевод H. Световидовой
Редактор М. Финогенова
* * *
Пробившись сквозь утренний туман, солнечные лучи залили Нтермелен — город, в котором вслед за Ойоло после провозглашения независимости была учреждена супрефектура. Поглощенный зрелищем пробуждавшейся улицы, Эссола не замечал потока пассажиров, его недавних спутников, освобождавших деревянные сиденья автобуса, занимать которые тут же бросились новые путешественники, толкавшие его со всех сторон. В большинстве своем то были бедные крестьянки, преждевременно состарившиеся от нужды и тяжелой работы, их не слишком чистые хлопчатобумажные платья распространяли не очень сильный, но едкий запах пота.
В городе ничто, казалось, не изменилось, за исключением бесконечного ряда крытых террас, которые тянулись вдоль магазинчиков, занимавших первые этажи: теперь там стало непривычно пусто. А раньше тут было полно ремесленников-портных: мужчины сидели за машинками, взгромоздив их на какую-нибудь подставку, а женщины, присев на корточки, крутили ручки маленьких «зингеров», установленных на низеньких упаковочных ящиках, и все это происходило под нетерпеливыми взглядами ревниво следивших за их движениями клиентов; теперь исчезнувший шум их голосов казался Эссоле олицетворением счастья.
Эта необычная картина не давала ему покоя. Что же могло случиться? Может быть, эта перемена каким-то образом связана с преследованием рубенистов, равно как и всякие иные странные явления, которые происходили по всей стране, и даже на востоке, в Мимбо, считавшемся одним из самых отсталых районов, не причинявших беспокойства властям. Быть может, причиной всему были пропуска и удостоверения личности, которые необходимо было иметь при себе тем, кто предпринимал далекие путешествия, — теперь деревенские жители редко покидали родные деревни, и' потому ремесленникам-портным, клиентура которых состояла в основном из крестьян, пришлось в конце концов отказаться от своего дела? Теперь в Нтермелене было не то чтобы совсем безлюдно, но и прежнего наплыва приезжих тоже не наблюдалось.
А может быть, среди ремесленников обнаружили таких, кто оказывал поддержку рубенистам, и, вместо того чтобы заниматься безнадежным делом — пытаться отделить зерна от плевел, правительство, склонное принимать быстрые решения, приказало им оставить свое ремесло — всем без разбору. Такое случалось довольно часто.
Эссола, подобно чужестранцу, ступившему наконец на берег, о котором давно уже был наслышан, от всего приходил в восторг. Ошеломленный тем, что все здесь соответствовало картине, созданной его воображением, он наслаждался изобилием красок, совершенно новых для него и вместе с тем давно знакомых, ему доставляли радость необычайно странные, но вместе с тем приятные звуки и терпкие запахи. Он глядел на оборванных, крикливых ребятишек, на босых женщин в выцветших хлопчатобумажных платьях с младенцами за спиной, на мелких служащих в жестко накрахмаленных рубашках, на попадавшихся ему навстречу белых людей, закованных в броню денежных расчетов и собственного превосходства, и ему казалось, будто он вернулся на шесть лет назад.
Только что, перед самой остановкой, его автобус обогнал военный грузовик, битком набитый солдатами в касках, восседавших с весьма воинственным видом под раздувающимся от ветра брезентовым верхом; впрочем, его удивил лишь цвет их униформы — зеленой, а не красноватой, как было прежде.
В 1959 году, вскоре после гибели Рубена, Эссола, сам того не ведая, в последний раз приехал в родные места и, не подозревая, какую роль сыграл Нтермелен в стратегических расчетах обоих лагерей, с интересом наблюдал, как стараниями стратегов колониальных войск, именуемых в официальных сообщениях «заморскими», городские окраины превращались в укрепленную зону с многочисленными военными постами, причем моторизованные патрули то и дело прочесывали город, следуя заранее намеченными маршрутами, что повергало в безмолвный ужас крестьян, направлявшихся по утрам на рынок.
Ему показалось, что сегодня с гораздо большей откровенностью, чем тогда, блюстители порядка, разгуливающие по всему городу в одиночку или группами, демонстрировали свою силу и власть. Еще в лагере все в один голос твердили, что в этих краях с рубенистами, патриотами и революционерами покончено. Рассказывали, будто на другой день после провозглашения независимости немногочисленные борцы, еще не сложившие оружия, были схвачены и их судил трибунал молодой республики по обвинению в терроризме, а потом их возили из одной деревни в другую, после чего они были расстреляны на глазах у всех. Случалось, что изуродованный труп мученика выставлялся для всеобщего обозрения в родной деревне.
Поэтому начиная с 1962 года власти, пытаясь окончательно сбить с толку народ, хранивший вопреки преследованиям верность памяти Рубена, по наущению французских психологов — советников Баба Туры — стали трубить о том, что жесткие меры властей сыграли свою благотворную роль и обеспечили умиротворение умов, и отныне царившая здесь атмосфера вызывала в памяти тех, кому довелось жить в те благословенные времена — начало пятидесятых годов: вернувшись, как говорится, к истокам, люди старались не выходить за рамки освященных традициями забот, они не только стали чураться политики, точно проказы, благоразумие (столь типичное для банту) заставляло их теперь избегать даже политических тем в разговорах, что со всей неоспоримостью предвещало возврат былого благополучия.