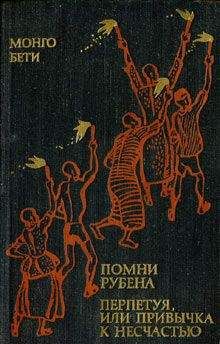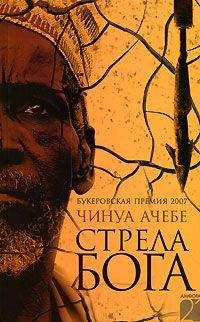— Я его знаю, — улыбнулся Эссола. — Вы на него очень йохожи.
— Правда?
— Я сразу догадался, что вы сын господина Деметропулоса.
— Лет пять уже я безуспешно пытаюсь поговорить о политике с молодежью, особенно с образованными молодыми людьми, но, стоит мне только заговорить с кем-нибудь об этом, люди немеют от ужаса. Зачем же тогда было так громко кричать о независимости? В этой стране все трясутся от страха, все, кроме французов. Эти-то по-прежнему чувствуют себя тут как дома. Ведь теперь стало хуже, чем до независимости, а вы-то надеялись, что будет лучше. Разве не так? Ага, ты тоже боишься, боишься, как и все другие! Нечего стыдиться, признавайся, что боишься.
— Ну конечно, боюсь, а как же иначе. А разве среди вас, греков, нет таких, которые тоже боятся?
— Ну нет, мой дорогой. С той поры как ваш президент отправился с визитом в Афины просить помощи у нашего правительства и подписал договор, нам нечего опасаться. Отныне мы в полной безопасности, почти как и французы. Надо полагать, французам надоело без конца раскошеливаться и они посоветовали Баба Туре обратиться за помощью к кому-нибудь другому. И судя по всему, афинские власти не поскупились, потому что по возвращении президент стал таким милым по отношению к представителям греческой колонии, а прежде и знать их не желал. Если у моего правительства есть лишние деньги и оно может бросать их на ветер, это его дело. Лично мне это безразлично. Теперь ни полиция, ни один представитель африканской власти не посмеет обойтись со мной грубо, случись что — все сразу станет известно греческому консулу, а он тут же передаст это дело нашему послу, и тот сию же минуту направит решительный протест вашему президенту, напомнив о помощи, оказанной вашей стране и в этом году, и в прошлом. И что тогда произойдет? Как ты думаешь? Ну скажи, скажи!
— Да вы сами сейчас мне все скажете.
— Ну что ты за человек! Не умеешь даже подыграть. И все-таки попробуй угадай.
— Простите, но я и правда не знаю. Я ничего не смыслю в дипломатии.
— А угадать, что будет дальше, совсем нетрудно. Ваш президент начнет приносить бесконечные извинения. Ты мне не веришь?
— Почему же нет? Верю, верю…
— И правильно делаешь. А за примерами ходить недалеко, подобный случай произошел месяц назад. Так вот, ваш президент раскланивался как мог. И кое-кому впредь неповадно будет шутить такие шутки. Есть тут один грубиян полицейский. Хо-хо! Это не то что шесть лет назад, сразу после провозглашения независимости, когда африканцы зарились на наше добро, а иные — даже на наших жен. С той поры как наше правительство согласилось выложить кругленькую сумму, мы уже ничего не боимся. В этом все дело, вот она, основа нынешней безопасности: надо, чтобы твое правительство расщедрилось и выложило денежки. А на дипломатическом языке это называется «помощь слаборазвитым странам».
— Да, но для этого надо иметь свое правительство. Счастливчик!
— Ты прав. Заметь, что только официальные власти…
Тут автобус тряхнуло так, будто он врезался в стену, и пассажиров вместе со всем их багажом швырнуло вперед. Один из мужчин разразился проклятиями, ругая водителя на чем свет стоит, какая-то женщина начала причитать, взывая к Деве Марии, Иосифу и Иисусу, отчаянно закричал ребенок. Одного только Эссолу резкий толчок не застал врасплох — он успел ухватиться за свое сиденье. На крутом повороте прямо перед автобусом выросла вдруг фигура человека, который, словно заяц, описывал на шоссе странные зигзаги. Несмотря на то что на нем были грязные лохмотья, он умудрялся сохранять величественную осанку. Вначале он не обращал внимания на сигналы водителя, но потом соблаговолил повернуть голову и дружески помахал рукой в сторону автобуса. Но вот беда — он явно переоценил свои возможности и, покачнувшись, растянулся на шоссе, неподвижно застыв, словно сраженный метким выстрелом.
Водитель, едва успев затормозить, остановил автобус на обочине шоссе и сказал с сердитой усмешкой:
— Еще один любитель «каркары»! Сколько же это будет продолжаться? И куда только смотрит ваше правительство? Можно подумать, что это повальное пьянство ему на руку — ведь все население насквозь пропитано этим ядом. Видно, правительству удобнее управлять пьяницами, его превосходительству, достопочтенному шейху Баба Туре, очевидно, это по нраву.
Сделав такое заявление, он проворно спрыгнул на шоссе и, подойдя к лежащему на дороге крестьянину, склонился над ним.
— Убирайся отсюда! — крикнул он по-французски, а потом повторил на каком-то подобии банту. — Ведь тебя раздавят, несчастный! Тебе что, жить надоело? А ну-ка, вставай, вставай! Давай я помогу тебе подняться. Да вставай же ты наконец…
Шофер заботливо поднял пьянчужку, ухватив его под мышки, но крестьянин, усевшись, упрямо оттолкнул своего спасителя, даже не раскрыв глаз. Наконец, выбившись из сил, молодой грек с покрасневшим от гнева лицом отхлестал оборванца по щекам на глазах у оцепеневшего от стыда Эссолы, который, несмотря на душившее его возмущение, оставался сидеть на месте. Он смирился со своим положением побежденного и решил отныне терпеливо сносить все. Что делать, времена изменились!
Вскоре к греку подошел молодой человек, открывший заднюю дверь автобуса, — вероятно, это был помощник води геля. Он взял пьяницу за ноги, тогда как грек продолжал держать его под мышки. Вдвоем они оттащили его в сторону, как относят раненых на поле битвы, и, словно бревно, свалили в придорожную канаву. И хотя Эссола не слышал удара падающего тела, он почувствовал, что жгучие слезы наворачиваются ему на глаза. Взгляд его затуманился.
Пока молодой грек запускал мотор, продолжая осыпать бранью правительство достопочтенного шейха Баба Туры, Эссола, стараясь избежать его взгляда, сообщил ему, что выходит на ближайшей остановке — через несколько сот метров.
— Как! Ты уже приехал? — удивился молодой грек.
— Да.
— Так, может, ты знаешь того несчастного, которого мы бросили в канаву?
— Нет, что ты! — поспешно ответил Эссола.
— Счастливо, старина! Не уезжай без меня, может, на обратном пути нам еще удастся поговорить с тобой. Пока.
Ослепленный, подобно новорожденному, впервые увидевшему свет дня, с тревожно бьющимся сердцем, полный умиления и в го же время ярости, вспыхнувшей где-то в самой глубине его существа, Эссола зашагал по дороге, следя за каждым своим движением, за каждым своим шагом. 11рислушиваясь к шуму удаляющегося автобуса, он приближался к родному дому, обветшавшему и походившему теперь на жалкую лачугу. Дверь была заперта. Он обошел вокруг дома несколько раз, внимательно приглядываясь к соломенному навесу над верандой — может быть, там спрятан ключ: уходя из дому, мать обычно оставляла его там для всех остальных членов семейства. Однако на этот раз ключа не было. За соседней хижиной чья-то неуверенная рука — вероятнее всего, это был ребенок — силилась извлечь из ксилофона мелодию старинной колыбельной песни. Эссола подошел поближе, но ребенок не обратил на него ни малейшего внимания, увлекшись своей игрой на инструменте, сделанном из деревянных палочек, утолщавшихся с одной стороны и прикрепленных к двум дощечкам, уложенным прямо на земле. Малыш стоял на коленях в пыли совсем голый, и Эссола понял, что его еще не подвергли обрезанию.
«Какое легкомыслие! — рассердился он. — Бедный мальчик, чего они ждут? Чтобы ему стукнуло двадцать, чтобы он ревел, словно бык, которого оскопляют? Нет, тут и в самом деле ничего не изменилось».
— Послушай, как ты вырос, — обратился он к мальчику. — Я едва узнал гебя. Ведь тебя зовут Нсимален?
— Амугу! Амугу! Амугу! — вместо ответа трижды прокричал мальчик.
— В чем дело, сынок? — послышался голос мужчины откуда-то из банановой рощи.
— Человек пришел.
— Что за человек, сынок?
— Не знаю.
Слабое шуршанье сухих листьев, устилавших землю, указывало на то, что мужчина направлялся к ним, хотя прошло немало времени, прежде чем он появился. Голый по пояс, в поношенных шортах, с большими мускулистыми босыми ногами, уверенно ступавшими по земле, мужчина этот был на целую голову ниже Эссолы, но на редкость плотно сбит. На его молодом смеющемся лице сверкали большие, навыкате глаза. Увидев человека, о появлении которого возвестил его сын, он остановился как вкопанный, разинув рот и вытаращив глаза от изумления. У него перехватило дыхание. Потом он завертелся волчком и, захлебываясь, повторял, смеясь и рыдая, только одно слово:
— Братишка! Братишка! Братишка! Братишка…
Не переставая твердить это слово по-французски, он обнимал Эссолу, прижимал его к своей груди, потом отпускал, кружа вокруг него, чтобы получше рассмотреть со всех сторон, а Эссола улыбался ему в ответ, хотя глаза его оставались печальными.