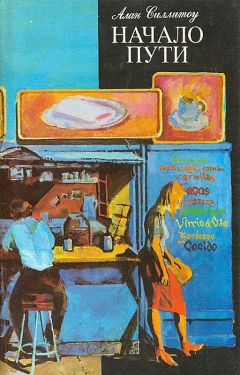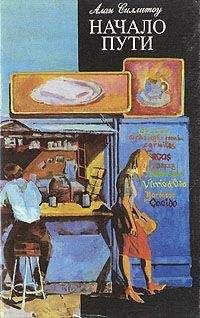Я оставил свои двадцать пять соверенов в бабушкиной шкатулке, запер ее и двинул обратно в Лондон.
На вокзале Сент-Панкрас я купил газету, чтоб не скучно было ехать в метро, развернул ее и сразу увидел крупно напечатанные слова, от которых мне стало, мягко говоря, не по себе: «В Темзе найдено обезглавленное тело. Полиция ведет розыск в районе Пэтни. Муж отравился газом». Я прочел сообщение несколько раз. Ее голову обнаружили в грязи… Да, значит, тот малый, с которым мы летели из солнечной Португалии, все-таки сделал свое дело, и нежная встреча в лондонском аэропорту ничего не изменила. А теперь напечатана кровавая сплетня, и ее читают все машинистки, стенографистки и секретарши. Меня чуть не вырвало, перед глазами как живое встало его безумное лицо, каждая черточка, а ведь в самолете, пока он рассказывал, я не мог его толком рассмотреть и так и не понял, что же скрывалось за этим приветливым, умным и все ж чудным взглядом.
Историю его я слушал с жадным интересом, да и как могло быть иначе — кого из нас не захватят рассказы о свирепой ревности, прямо тебе средние века, о материнской любви, о злобе, даже если все это и кажется подчас смехотворно нелепым? Но я не мог заглянуть к нему в душу, а потому не мог поверить, что все это не пустые слова. Зато впредь я буду знать: когда человек говорит, он приоткрывает свое истинное нутро. Если кто дошел до ручки, он не способен врать, уж тут чутье должно тебе подсказать, что с человеком творится. Но моя обленившаяся душа ослепла и оглохла, заросла шерстью, и я тогда ничего не сделал. В моем сознании должно что-то взорваться, не то будет поздно и душевная вялость кончится для меня катастрофой, — но как его вызвать, этот взрыв?
Поезд метро грохотал в недрах Лондона. Я втиснулся в него вместе с толпой служащих и, несмотря на все эти мысли, невольно читал подряд дурацкие рекламы на стенах вагона. Потом отвел глаза и уставился на чью-то спину — на ней-то уж ничего нельзя было прочесть.
Дома меня ждало письмо от агентов по продаже недвижимости, и я с облегчением узнал, что тысяча сто фунтов, предложенные мной за дом и помещение полустанка Верхний Мэйхем всех устраивают. Меня просили поскорей отдать распоряжение моим поверенным, чтоб можно было оформить бумаги. Повторять не потребовалось — уже наутро я позвонил в контору Смата и Банта и попросил тут же приняться за дело, а то как бы кто не предложил больше и не перебежал мне дорогу. Тот житель Пэтни вышел из игры, но ведь могут найтись и другие охотники, а при моем ненадежном положении мне как никогда хотелось заполучить в собственность это уютное убежище.
Я позвонил в штаб-квартиру, хотел узнать, когда надо ехать. Стэнли оказался разговорчивей обычного.
— Нет, Майкл, — сказал он, — еще денек-другой вы не нужны. Утром в Цюрих летит Артур Рэймедж, а он стоит двоих. Так что обождите до послезавтра. — Я хотел было сказать: нечего, мол, этому жадюге Артуру Рэймеджу отбивать чужой хлеб, да Стэнли уже повесил трубку.
Рэймедж был настоящий король контрабандистов, о нем ходили легенды. Уильям называл его чемпионом, чуть не молился на него: тот возил контрабанду уже многие годы, ни разу не попался, переправил больше золота, чем все пароходы компании «Кьюнард» и так разбогател от своих заработков — даже завел в Норфолке отличную доходную ферму. Он здорово справлялся с самыми хитрыми поручениями, и ему платили дай бог всякому. Уильям говорил — если б Рэймедж написал про все свои дела книжку, она шла бы нарасхват, только ему припаяли бы триста лет отсидки за подрыв британской экономики. Каждый раз, как премьер-министр толкает речугу в парламенте насчет того, каким бы способом выбраться из финансового кризиса, можно голову дать на отсечение: тут опять поработал Артур Рэймедж. Только Британия успеет пополнить свой золотой запас с помощью займа за океаном и облегченно вздохнет — глядишь, Артур Рэймедж (с помощью организации Джека Линингрейда) снова начнет опустошать казну. Если принять эту болтовню всерьез, пожалуй, и впрямь поверишь, будто солидные займы предоставляют те же люди, которые через Джека Линингрейда получают свое золото обратно, а все ради того, чтобы ихняя лавочка работала без перебоев и чтоб росли комиссионные и прочие доходы.
Вышел я из дому, отправился в Сохо подзакусить. По дороге позвонил Полли, и счастье мне улыбнулось: она сама сняла трубку. И явно мне обрадовалась:
— Завтра работаешь? Нет? Тогда приезжай.
У самой будки парень обнимал девчонку, и ему не терпелось занять мое место.
— Я должен был утром лететь, — сказал я, — но для разнообразия в Лиссабон махнет другой.
— Вот и хорошо, лишь бы не ты, милый, — мягко сказала Полли. — Я по тебе соскучилась. А какой же это бедняга летит вместо тебя?
— Есть такой Рэймедж, эти две недели он будет вылетать в один и тот же день. Да ты его не знаешь. Я и сам видел его только раз. Он чемпион.
Она перебила меня, словно боялась, что я завелся на целый час.
— К десяти дома никого не будет. Позвони и приезжай. Поможешь мне срезать розы.
— Только пускай они не колются.
Полли засмеялась и повесила трубку Я сделал то же самое, оттолкнул парня и девчонку — они прямо рвались в будку — и вышел на улицу.
Старший официант поклонился мне, совсем как когда-то Уильяму, и я подумал: дурная примета, а все равно было приятно — ведь если не знаешь, что заказать, он побалует лучшим сегодняшним блюдом или предложит что-нибудь необыкновенное, бывает, ты и не в настроении и есть неохота, а все одно не устоишь. Чтоб поуспокоиться, я на славу поел и запил полбутылкой шампанского. Если все выйдет по-моему, впереди у меня вот что: брошу возить контрабандой золото, сделаю предложение Полли Моггерхэнгер и припеваючи заживу с ней на своем полустанке. Да нет, сколько бы я ни строил распрекрасных планов, ничему этому не бывать, это просто воздушные замки, все уже решено за меня и от моих желаний и надежд ничего не зависит. Однако эти мысли не больно меня мучили, по крайней мере аппетита они мне не испортили. Я огляделся по сторонам — не найдется ли подходящей девчонки, но, похоже, вечер для меня выдался пустой, сегодня здесь было не очень-то людно, выбирать не из чего.
Я уже не раз нежился с Полли в разных постелях моггерхэнгеровского дома и в его логове в Кенте и теперь наконец понял, чего хочу, и хоть для такого парня, как я, жениться на ней вроде чистое безумие, все равно что сунуть голову в петлю, я твердо решил добиться своего. Я рассказал ей про свой полустанок и уж так расписал, до чего он красивый да уединенный, будто для такой пылкой влюбленной парочки уголка романтичнее не сыщешь в целом свете.
Мы возвращались в Лондон, и Полли сказала: ей очень все нравится, что я рассказываю про Верхний Мэйхем, и она со всем согласна, только не хочется слишком резко рвать с отцом, она его любит и надо бы, чтоб он рано или поздно примирился с нашим бегством. Сама-то она всем сердцем желает остаться со мной навеки (сдается мне, иногда она бывала еще покрасноречивей меня), но я должен запастись терпением и дождаться подходящей минуты, а тогда я помогу ей сбежать из дому.
Эти ее речи привели меня в восторг — стало быть, вот как серьезно Полли отнеслась к нашему будущему отъезду! Как же мне не сделать для нее такой малости — не помочь ей сбежать тогда, когда ей будет удобней, и раз уж речь идет о счастье всей моей дальнейшей жизни, что стоит еще несколько месяцев поработать у Джека Линингрейда?
Полли — первая, с кем я был до конца откровенен и открыт. Моя склонность к вранью куда-то подевалась, а если я чувствовал, меня опять подмывает сочинять, я нарочно порол уж такую дичь, что Полли при всем желании не могла поверить ни единому слову. Оказывается, любовь делает человека честным, да вот беда — в мире контрабандистов нужна увертливость, а такая вот честность может только навредить: как бы еще прежде, чем Полли сбежит со мной в Мэйхем, я в одну из своих поездок в лондонском аэропорту или в Гэтуике ненароком не выдал себя таможенникам. Она знала все хитрости, к которым я прибегал, чтоб, несмотря на свой груз, сойти за добропорядочного путешественника; я рассказывал ей, когда еду и куда, а если знал — и кто еще отправится в этот вечер или на другой день. Мне легко и просто было с нею откровенничать, это помогало тянуть лямку, пока наконец Полли не решит — пора, мол, укрыться в нашем гнездышке. И меня не брала досада, что оттяжка оказалась куда более долгой, чем я думал, — ведь с каждой поездкой мой счет в банке становился все внушительней.
Однажды я предложил Полли скатать со мной в Париж — мне как раз предстояло туда лететь, — но ее родители собирались на несколько дней в Борнмут и хотели взять ее с собой. Она сказала, ей ужасно хочется побывать со мной в Париже.
— Я пошлю родителей к черту, — сказала она. — Охота была три дня помирать со скуки в Борнмуте, когда мы могли бы провести их вместе в Париже, это несправедливо! Ты мне дороже родителей, и я поеду с тобой, даже если из-за этого придется с ними порвать.