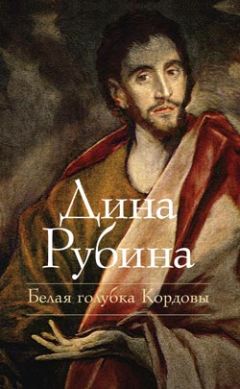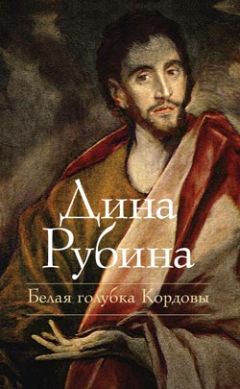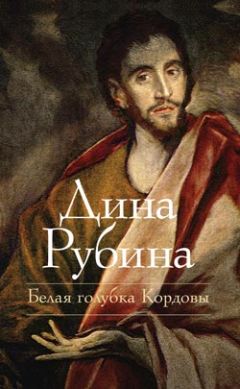Когда кто-нибудь заходил в мастерскую, портрет отворачивали лицом к стене.
– Корсары предвкушали неправедную добычу, – говорил Андрюша, опуская коржик в стакан с горячим чаем. Он пил его часто, и обязательно – кипяток, даже летом стараясь согреться.
Время от времени подходил и проверял сторожкими пальцами холст то в одном, то в другом месте – не просох ли уже, наш курилка? И допроверялся: нечаянно задел локтем, холст грохнулся с мольберта об угол стола и при такой завышенной процентности клея, как потом счастливо повторял Андрюша, мог бы на куски разлететься, как тарелка… но не разлетелся, только в двух местах треснул паутиной тончайшего кракелюра: на руке, заложенной за отворот куртки, и на причинном месте полководца.
Захар как раз вернулся из пирожковой и застал скачущего по мастерской, будто ногу ему отдавили, стонущего матерные проклятия Андрея.
Для начала полаялись, как положено: «Это ты…» – «Нет, это все ты со своим клеем…» – «А какого же хрена…» – ну, и так далее.
Потом плюнули, помирились, перекусили пирожками с яйцом-луком… Махнули на все рукой: и не такое теряли. Можара – к свиньям собачьим, что поделаешь… тыща дукатов накрылась медным тазом. Ну, и аминь.
И далее до вечера каждый занимался своим делом. Андрюша реставрировал золоченную ампирную раму от овального зеркала, Захар натягивал холст для давно задуманной «Бани» – новой картины в серии «Иерусалимка».
Все чаще он поднимал голову к загубленному императору, задерживая на нем сначала огорченный, потом задумчивый, потом пытливый взор. Наконец, отложил молоток, выплюнул в коробку гвозди и молча принялся снимать с подрамника пострадавший холст.
– Ты чего? – спросил Андрей. Захар не отвечал, лишь как-то загадочно помыкивал. Когда холст был снят с подрамника, он так же молча подошел к столу, и с треском, сверху донизу сильно проехался полотном об край столешницы. Андрюша только крякнул, уже понимая – что тот надумал.
…Портрет Наполеона лежал на столе во всем великолепии естественного, равномерно-мелкого, небесной красоты кракелюра. Оба прохвоста стояли над ним, любуясь своим творением в торжественном молчании.
– Судьба! – наконец проговорил Андрюша.
– И новый метод, – добавил Захар.
…А вечером к ним ввалился пьяный в дугу Варёнов. Рыло у него и вправду напоминало вареную колбасу. Реставратор мастерских Эрмитажа, был Николай Варёнов трамвайным хамом и алкашом; на реставрацию картины мог выписать 26 литров спирта, дружил с фарцовщиками антиквариата, например, был закадычным дружком все того же Можара; от Варёнова вились цепочки самых сомнительных знакомств, подчас уголовных. И всегда он с чем-нибудь диковинным возникал: то притащит малиновый корсет фрейлины императрицы, то извлечет из-под необъятного тулупа рыжий ботфорт, уверяя, что именно ногой в этом ботфорте заседал Михайло Кутузов в ставке в Филях…
Варёнову дали чай в стакане с подстаканником.
– Издеваетесь? – спросил он.
– Ты уж и так хорош, – заметил Андрюша и подмигнул Захару. – Вот ты, Коля, гордишься своей высокой квалификацией… А у нас тут одна картинка всплыла, портрет Наполеона Бонапартыча. Клиент просит экспертизы. Не взглянешь – каких времен и чьих кистей портрет?
Варёнов еще поторговался за не просто так, ему, конечно же, налили. Осмотрев портрет, он уверено заявил:
– Новодел!
– Новодел-то новодел… – согласился Захар. – А точнее? Что скажешь?
Тот внимательней осмотрел холст на обороте, склонился над лицевой стороной, одышливо сопя и щуря воспаленные глазки. Высморкался в несвежий платок и решительно отрезал: – От силы лет сто!
За год оба они прибарахлились, щеголяли в джинсах и кожаных куртках из комиссионки, съездили в Коктебель, где ухаживали за одной и той же официанткой Оксаной из столовой дома творчества писателей… Девушка дарила своим вниманием обоих, удивлялась, какие они «дружни, хоть и таки разни», очень любила сладкое вино «Розовый мускат» и «Мадеру», но пила до определенного градуса, после которого приветливо советовала: «Хлопци, больше не наливайте, я уж такая, какая вам трэба!».
Была она удивительно некрасива лицом, с волчьим прикусом, низким выпуклым лбом, но льняными льющимися волосами и фигурой Артемиды. Столько ослепительной обнаженки, сколько Захар сделал с нее за три недели, он не сделал за все годы учебы, и потом всю жизнь при надобности сюжета – а сюда мы поместим Кса-а-ану, – вставлял в картины и акварели ее крутые летящие бедра, широко расставленную классическую грудь и гибкую мускулистую спину богини-охотницы.
Захар уже участвовал в нескольких квартирных выставках, на которые, помимо постоянной своей публики – коллекционеров, околохудожественной шатии-братии и диссидентов самых разных конфессий, – приезжали из Москвы второй секретарь посольства Швеции, кое-кто из посольства Дании и, как заметил Андрюша, еще какой-то хрен моржовый из викингов. Давно уже тянулись в Советский Союз заинтересованные в «новом русском искусстве» западные галеристы, коллекционеры, кураторы музеев… На таких вот закрытых квартирных выставках рождались имена, группы и направления.
То и дело Захара призывали в ряды какой-нибудь группы, потому как известно: в искусстве, как на поле боя, лучше двигаться «свиньей». Он неизменно отклонял любое предложение, работы развешивал сам, группируя их отдельно, и прослыл закоренелым единоличником. К тому же на свои картины, к которым с порога устремлялись вошедшие гости, он ставил несусветные цены, невообразимые для молодого, никому неизвестного художника.
Аркадий Викторович – тот всегда бывал на таких выставках, иногда покупая у молодняка одну-две работы («знаете, Захар, никогда не угадаешь – кто из нынешних канет в Лету, а кто вдруг всплывет; это небольшие прозводственные затраты, сродни дорожным расходам») – не понимал, чего же Захар добивается.
– Ну, вот вы оценили вашего «Капитана Рахмила» в пять тысяч долларов, – говорил он. – Картина превосходная, слов нет, но имя-то ваше пока никому ничего не говорит. Между тем, качество живописи никого из западных галеристов и кураторов давно уже не интересует. Искусство сегодня – это политика и бизнес. Интересуют миф, легенда, направление, понимаете? А направление всегда двигает группа. И это отнюдь не новое веяние. Вспомните импрессионистов, фовистов… пост-импрессионистов, наконец… Западному куратору интересно стать идеологом целого направления, а не одинокого, затерянного в волнах времени, живописца. А галерея-то эта, кстати, хорошая, одна из лучших в Цюрихе… вот пригласили вас участвовать в групповой выставке; и, главное, каталог будет, каталог! Отчего вы отказались?
– Я, Аркадий Викторович, и в любви, и в искусстве чураюсь групповухи. Предпочитаю обособленность. А главное, не нуждаюсь в идеологе. Эти кретины, которые сами не в состоянии провести линию на бумаге, почему-то считают, что художника надо вразумлять… Меня это приводит в бешенство.
– И очень досадно! Вот продали бы мне всю «Иерусалимку» махом, за нормальную цену, а через какое-то время очнулись бы знаменитым, и пошли бы тысячи, как кегли, сшибать!
Но Захар лишь уклончиво улыбался, не желая указывать Аркадию Викторовичу, что тот противоречит самому себе.
У него был собственный план на предмет продвижения своих картин. Да, сегодня еще все эти с недоумением отваливают от стенки, узрев четырехзначную цифру, пожимают плечами, качают головой: «наглец, сумасшедший, что он о себе воображает!». Ну, как же, они привыкли скупать в России картины пачками, по три доллара на килограмм, как конкистадоры меняли у индейцев слитки золота на нитки стеклянных бус… Нет, дудки! Рано или поздно это мародерство закончится, Россия предъявит в искусстве свою цену. И тогда – потом, потом, он никуда не торопится, – никто из этих не посмеет сказать: «А, Кордовин… да я в восемьдесят восьмом его картинки по двести долларов скупал».
Однажды поздно вечером раздался звонок. (Жука уже улеглась и даже вздремнула, поэтому в спину ему понеслись энергичные проклятья на всю эту богемную шоблу, для которой нет понятия приличий.) Но это оказался Аркадий Викторович, человек строгих правил и безупречного этикета.
Его выразительный голос, казалось, утратил всю свою великолепную властность, и сейчас плясал и вздрагивал, и чуть не петуха давал:
– Захар, голубчик, я разбудил вас?
– Не меня, а тетю.
– Ради бога – вымолите за меня прощение у Фанни Захаровны! Просто я понял, что утра не дождусь.
– А что случилось? – обеспокоился Захар.
– Вы можете приехать немедленно? Я оплачу любой транспорт.
– Тогда – вертолет, – натянуто пошутил Захар. – Аркадий Викторович… выезжаю, конечно, а что стряслось?