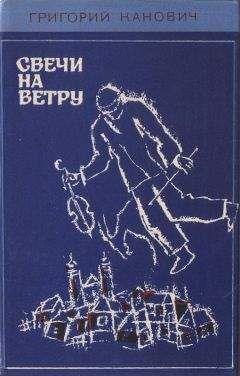— Здравствуйте, господин аптекарь!
— Здравствуйте, господин Даниил!
Он всех называл господами, даже нищего Иакова.
— Я слышал, вы едете с бабушкой в город, — пришел мне на помощь сам аптекарь. — В тюрьму.
— Едем, господин аптекарь.
— Поезжайте, поезжайте, господин Даниил!
В словах аптекаря не было ни одобрения, ни хулы.
— Наши тюрьмы, конечно, ни в какое сравнение не идут с заграничными, — сказал аптекарь. — Взять, например, Тауэр или Бастилию…
— Господин аптекарь, — судорожно глотая слова, начал я. — Вам случайно рыба не нужна?
— Какая рыба?
— Два леща… щука… усачи…
— Ваша бабушка, господин Даниил, стала торговать рыбой?
— Нет, нет.
— Хотя в рыбных продуктах очень много полезного для организма, особенно для мозга — фосфора, тем не менее я за соблюдение меры. Мы позавчера уже рыбу ели. Спасибо.
В дверях я чуть не столкнулся с нашим полицейским. Порядок был без униформы. Старенький пиджак висел на нем мешковато, словно был с чужого плеча, а может, так оно и было.
— Худо, господин аптекарь, худо, — услышал я его совсем не полицейский голос.
Кому было худо, я не успел разобраться: аптекарь прикрыл за полицейским дверь.
— Ну? — грустно спросил Пранас, дожидавшийся меня на улице.
— Они, оказывается, уже позавчера ели рыбу.
В руке Пранаса о стенки садка билась щука. Она всю дорогу металась, и Пранас даже вытащил ее и дважды пристукнул булыжником. Но щука была на редкость живучая.
— К госпоже офицерше сам зайдешь, — пожалел я щуку. Я вообще жалел все живое: собак, кошек, рыб и особенно гусей. Когда бабушка приносила от резника еще кровоточащего гуся или гусыню, какая-то картофелина застревала у меня в горле, и я никак не мог ее проглотить.
Господин офицер жил в двухэтажном доме, напротив костела. Мы вошли с Пранасом в калитку и увидели их прислугу, рябую Казе, поливавшую из лейки цветы.
— Вам чего? — поставив лейку, спросила Казе. Бока у нее были толстые, как мешки на мельнице.
— Мы рыбу принесли. Госпожа офицерша дома? — выступил вперед Пранас.
— Уехала на крестины. Племянник у нее родился. В Сейрияй, — Казе откинула мужской рукой сползшие на глаза волосы.
— А господин офицер? — все еще не теряя надежды, осведомился Пранас.
— На маневрах.
— Где, где?
— На маневрах. Понятно?
— Непонятно, — сознался Пранас.
— Маневры — это война. Только без крови. Может, твою рыбу господин аптекарь возьмет или господин лавочник. Евреи без рыбы жить не могут.
— Неправда! — сказал я. — Мы евреи и живем без рыбы.
— Вы нищие евреи, — сказала Казе.
От господина офицера, как и от аптекаря, мы ушли ни с чем.
Пранас брел впереди, хмурый, раскачивая садок, а я плелся сзади, глазел на его босые, в цыпках, ноги и думал, что ему, пожалуй, не удастся поехать в город, в тюрьму — не всем подваливает такое счастье.
Когда и лавочник отказался купить рыбу, Пранас и вовсе сник.
Мы спустились снова к реке. Пранас забрел в воду и погрузил в нее садок, привязав его толстой веревкой к выпиравшей со дна коряге.
Щука ожила в воде и заметалась.
— Должно быть, мамка уже вернулась. Пошли, заберешь посылку.
Я возвращался с посылкой домой, но той радости, от которой накануне по телу разливалась сладостная пьянящая легкость, я уже не испытывал, что-то ушло, вытекло — как будто треснул кувшин, полный меда, и вязкая струйка поползла со стола вниз, просачиваясь в щели между половицами, и никакими силами ее оттуда не выцарапаешь, не выколупаешь, хоть все ногти обломай. В моей голове шмелями гудели всякие мысли, они не жалили, но от их гуда ломило в висках. Я вдруг почувствовал, что всегда бок о бок с радостью, как слепой с поводырем, ходит еще что-то, смутно угадываемое и безыменное, может быть, жалость, может быть, вина, а может быть, совсем другое. Всю дорогу я мысленно оправдывался перед Пранасом, будто обманул его или выдал доверенную мне тайну.
Все шмели мигом вылетели из моей головы, когда я заметил у нашего дома полицейского. От удивления я чуть не выронил посылку.
— Где твои старики? — осведомился Порядок.
— Дома.
— Дома их нет, — сказал наш полицейский. — Куда они запропастились?
— А вам кто нужен: бабушка или дедушка?
— Бабушка.
Все пропало. Порядок пришел за бабушкой. Слухи про город, про тюрьму дошли до него, и он решил запретить поездку.
— А что у тебя в руке? — вдруг спросил Порядок, тыча в посылку.
— Это? — у меня дрогнула губа.
— Сейчас мы проверим, — Порядок двинулся ко мне. — Может, ты, голубчик, по стопам отца?..
— Маца! Маца! — вдруг осенило меня.
— Порядок, — сказал полицейский. — Тогда попробуем.
— Она с кровью! — закричал я.
— Чепуха! Никакой крови в маце нет, — сказал Порядок.
Выручила меня бабушка. Она пришла как раз в ту минуту, когда рука полицейского потянулась за посылкой.
— Твой внук — жадюга! Я попросил у него мацы, и он мне не дал.
— Мацы! — удивилась старуха. — Маца бывает на пасху… А пасха бывает в апреле. А сейчас не апрель, а август, — скороговоркой выпалила бабушка. — Это не маца, а посылка.
Я в ужасе закрыл глаза.
— Посылка? Кому?
— Стасису… столяру… В тюрьму… Жена посылает, — на ломаном литовском языке объяснила бабушка.
— Нехорошо обманывать полицию, — сказал наш полицейский и укоризненно посмотрел на меня.
— Больше не буду, — заверил я его.
— У меня к тебе просьба, — сказал Порядок. — Век не забуду.
Ну что ты скажешь? У всех, даже у полиции, к бабушке просьбы. Не собирается ли наш полицейский попросить, чтоб мы купили ему пистолет или резиновую дубинку? У него была резиновая дубинка, но ее прямо из-под носа стащили в трактире Драгацкого. Смеха ради.
— …Мне нужны уколы, — Порядок ткнул пальцем себя в задницу.
— Я его еще и не туда пошлю! — обиделась бабушка.
— Никуда он тебя не посылает, — сказал я. — Он хочет, чтобы ты купила ему в городе уколы.
— А деньги?
— Я дам деньги, — успокоил ее Порядок. — Доктор Иохельсон говорит, что такие уколы можно достать только в городе. Внучка моя при смерти… Стасите… Век не забуду… Вот рецепт и деньги.
Теперь уж бабушка все поняла и без перевода. Она не посмела отказать Порядку, хотя именно он, наш полицейский, много лет назад увел ее непутевого сына, моего отца Саула. Но разве от этого должна страдать полицейская внучка Стасите?
— Так и быть, — сказала бабушка. — Поищем уколы для твоей внучки.
— Спасибо, — по-нашему сказал Порядок.
Он поплелся со двора, сгорбившийся, без шапки, С седыми, невесомыми, как у всех стариков, волосами, запахивая на ходу старенький пиджак, от которого пахло не властью, не бранью, а молью, табаком и потом.
— Дура! — выругалась бабушка, когда полицейский ушел. — Спросить, дура, забыла!
— Что?
— Может, он кого-нибудь в тюрьме знает. Без знакомства туда, небось, не попадешь.
Давно моя молитва не была такой жаркой и искренней, как накануне отъезда в город. Я стоял рядом с бабушкой на хорах, и мои губы шептали благодарность господу за то, что он явил мне такую милость. По правде говоря, я был не очень-то достоин ее — не я ли помогал бабушке ломать починенные дедом стенные часы, не я ли уплетал в лодке окорок и даже клянчил у Пранаса еще, до того свиное мясо мне понравилось — куда до него нашей грудинке. А может, всевышний занятый более важными делами, оставил мои грехи безнаказанными или просто не доглядел за мной. Не может же он один уследить за всеми праведниками и грешниками.
Но еще жарче и исступленнее молилась бабушка. Она просто требовала от бога, чтобы он, кроме нее, никого в молельне не слушал. Другие подождут. Сегодня ее черед. Сквозь бабушкино жаркое бормотание я уловил имя моего отца и понял, что старуха только храбрилась, ни в какие глаза она ему не плюнет, а чего доброго, первая бросится к нему на шею и поцелует. Он и безбожник и такой-сякой, но прежде всего единственный плод ее чрева, как она туманно называла его в своей неистовой и бессвязной молитве.
А еще бабушка молилась за то, чтобы вседержитель помог ей пробраться в тюрьму без особых расходов. У нее нет ни лишних денег, ни времени, она должна скорее вернуться в местечко: перина для Суламифь должна быть готова к свадьбе, ни на один день позже. А с ней, с периной, еще, боже правый, столько возни! Она уже раз носила перину в лавку, но господин лавочник забраковал ее: недостаточно, мол, мягкая не мешает, мол, еще подбавить пуху, ведь молодые собираются на ней не одну ночь проспать.
Бабушка разговаривала с господом, как со старым знакомым на рынке, то сбиваясь на шепот, то переходя на крик. На нее с упреком поглядывали другие бабушки, пришедшие в молельню тоже не любопытства ради, а с такими же, если не более важными, просьбами. Но старуха не обращала на них никакого внимания, расталкивала их в очереди к божьему престолу и во что бы то ни стало старалась пробраться первой к деснице всевышнего, полной милостей, за которые не надо было платить ни работой, ни деньгами, а только постом и молитвой.