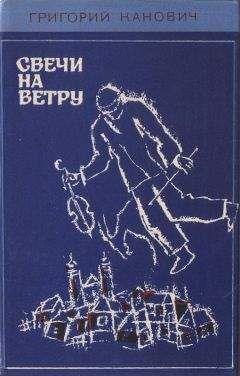Когда бабушка сварила в дорогу гуся, я окончательно убедился, что едет она вовсе не для того, чтобы плюнуть сыну в глаза.
— Хотел бы и я его увидеть, — сказал дед, когда бабушка разрезала гуся на ровные половины.
— Ты поедешь в следующий раз, — отрезала старуха.
— Когда?
— Когда он снова сядет. Ты думаешь, он одним разом ограничится?
— Хватит с него! Насиделся. — Старик засуетился, побрел в свою комнату и вернулся с какой-то вещью, зажатой в негрозный жилистый кулак. — Это ему от меня, — сказал он, не разжимая кулак, и заморгал бесцветными, легкими, как паутина, ресницами.
— Что там у тебя в кулаке? — насупилась бабушка.
— Подарок.
— За что же ему, бесстыжему, подарок? За то, что нас на старости бросил?
— Отвези ему, — дед разжал кулак.
— Часы? — воскликнула бабушка. — На какие деньги ты их купил?
— Я их из старых частей собрал.
В комнате стало тихо. Бабушка подошла к деду и заглянула в кулак, как заглядывают в чужое окно: стыдливо и осторожно.
— Ты думаешь, я уже ничего не умею?.. А я, как видишь, еще не так стар… Ты только послушай, как они идут! Как в мои лучшие годы…
Бабушка посмотрела на него без прежней злости, с каким-то странным участием, как на больного, смирившегося со своей немощью, закряхтела и взяла у него подарок.
— Береги себя и Даниила, — сказал дед. — Город все-таки… Трам-тарарам… — протянул старик и направился в свою комнату.
Мне вдруг, ни с того ни с сего, стало страшно за деда. Я почему-то подумал, что, когда мы уедем, он обязательно умрет, сядет на свое привычное место, возьмет лупу, приставит ее к глазу, откроет какую-нибудь заржавевшую луковицу и рухнет на стол. А вокруг его мертвой головы, как муравьи, будут сновать винтики и стрелки, что-то будет тикать, но разбудить его не сможет.
Мне даже захотелось крикнуть:
— Дед! Не умирай до нашего возвращения! Не умирай!
Но я сдержался. Я мог обидеть бабушку — ведь по ее словам она должна была в нашем доме умереть первой.
И все-таки я набрал в легкие воздух и сказал:
— Наш дед — молодчина. Он не совсем еще оглох и ослеп. Какие часы соорудил!
— Так я ему поверила! — остудила мой пыл бабушка. — Нашел чье-то старье, почистил малость и хвастает.
От нашего местечка до железнодорожной станции было версты две с половиной. Будь я один, я домчался бы до серого вокзального здания в один миг, но со мной была бабушка, а с бабушкой был деревянный сундучок с железными оковками, который она мне не доверяла, а тащила сама, охая и кряхтя, то и дело останавливаясь и поворачивая морщинистую шею — не тарахтит ли какая-нибудь попутная подвода. Но вокруг ничего не тарахтело, а если и двигалось, то, как назло, не в ту сторону.
Немилосердно палило солнце, и бабушка обливалась потом. Уже у самой станции нас догнал воз, груженный мешками с мукой свежего помола, но старуха пожалела лошадь.
— Ей и так тяжело, — сказала она, когда подвода поравнялась с нами, — а до станции рукой подать.
На станции было пусто: сегодня никто никуда не едет, что ли?
На рельсах сидели взъерошенные голодные воробьи. По шпалам расхаживал, как служка Хаим в молельне, черный грач и высматривал жука или мошку.
Мы с бабушкой встали поближе к рельсам, чтобы успеть сесть в вагон. Поезд-то на нашей станции стоял меньше минуты. Лязгнет буферами, зальется гудком, и догоняй его!
— Гляди-ка, — сказала бабушка. — Тебя провожать пришли.
Я повернул голову и увидел на перроне Пранаса. Он бежал к рельсам, крепко сжимая в руке садок, где все еще, должно быть, металась щука.
— Ты только не вздумай с ним куда-нибудь отлучиться. Я тебя искать не буду, — предупредила старуха.
— Он тоже едет, — сказал я ей.
— Куда? — спросила бабушка.
— В город.
— Зачем?
— Не знаю.
Где-то за высокой трубой мебельной фабрики послышался грохот, а чуть позже протяжный гудок паровоза. Вскоре и сам он вынырнул из леса, похожий на громадного рака, перебирающего невиданными клешнями.
На перрон вышел железнодорожник в форменной фуражке. Он остановил, как дрессировщик, флажком поезд, и мы с бабушкой побежали к своему вагону. Задирая подол юбки, не выпуская из рук сундучок, осыпая колеса поезда проклятиями, первой поднялась бабушка, а за ней залез и я.
Я примостился у окна, бабушка села напротив, прикрыв свои старческие колени сундучком. Она ни за что не соглашалась поставить его на пол; вдруг кто-то услышит тикание на дне и стащит часы вместе с гусем. Чуть поодаль смачно храпел какой-то дядя в вонючей овчине.
За окном мелькали перелески, крыши, облака, перистые и легкие — вот бы бабушке набивать ими перины, неплохо бы она заработала!
От мерного стука колес, от мелькания деревьев в окне, от теплых и вязких мыслей о скорой встрече с отцом клонило ко сну. Я, наверно, заснул бы, если бы в конце вагона не появился приземистый человек с клещами в руке.
— Господа! — объявил он. — Проверка билетов!
Бабушка завозилась, поставила рядом с собой сундучок и при всех полезла куда-то под платье, в чулок. Все ценности старуха держала в чулке, будь то деньги, ключи, налоговые квитанции и даже рецепты.
— Господа, проверка билетов, — вновь возвестил контролер и подошел к первой скамье, на которой сидели какой-то солдатик и девица.
От окрика контролера проснулся и наш сосед в вонючей овчине. Он широко зевнул, потопил в кармане руку и вынул оттуда какую-то бумажку.
— Благодарю… Благодарю, — приземистый мужчина перекусывал клещами билеты и, слегка покачиваясь, двигался в глубь вагона.
— Ваши билеты! — обратился он к бабушке, и старуха с вымученной улыбкой протянула их. Уж чего она совершенно не умела в жизни делать, так это улыбаться.
— А ты с кем? — услышал я и вдруг увидел, как контролер в глубине вагона тронул за рукав Пранаса — мы с бабушкой даже не заметили, как он проник в вагон. — Это ваш мальчик? — спросил приземистый у какого-то сонного крестьянина.
— У меня своих детей дюжина. Чужих мне не надо, господин контролер, — сказал крестьянин.
— У тебя есть билет, мальчик?
— Нет у меня билета. У меня есть рыба.
В вагоне захохотали. Громче всех смеялись солдатик и его девица.
Пранас открыл садок, и в душном вагоне вдруг повеяло речной прохладой, рыбьей чешуей и водорослями.
— Тебе придется пройти со мной, — сказал контролер. — На первой станции я тебя высажу вместе с твоей рыбой.
— Господин контролер! — взмолился Пранас, но тот и слышать не хотел.
— Пошли! Пошли!
Пранас встал и, опустив голову, поплелся за клещами.
— Не выгоняйте его! — закричал я. — Не высаживайте! Ему очень надо в город. У него отец в тюрьме.
Бабушка побледнела и снова улыбнулась приземистому своей вымученной улыбкой. На Пранаса уставился весь вагон: наш сосед в вонючей овчине, солдатик со своей девицей и две монахини в белых воротничках и с маленькими крестиками на шее.
Поезд замедлил ход. Видно, приближалась остановка. Контролер повел Пранаса через весь вагон к выходу. Я сорвался с места и бросился за ним. Бабушка даже не успела ужаснуться.
В тамбуре приземистый спросил:
— А твой отец кто?
— Столяр.
— Столяру в тюрьме нечего делать. Столяр должен столярничать, — сказал контролер.
Поезд остановился на маленьком полустанке.
— Я тебя, пожалуй, высажу в другом месте, — сказал контролер Пранасу. — Тут тебе будет скучно.
Мы стояли в тамбуре и молчали. Ветер трепал наши волосы, а мимо летели усадьбы, речушки со своими лещами и щуками, проносились леса, усыпанные грибами и ягодами, куда-то бежал проселок, а сердце снова полнилось радостью потому, что господь бог и создал его для этого. Для чего же еще?
Когда мы вышли из вагона, в нос сразу ударил запах города: пахло дымом, каменным углем и чужбиной.
На вокзальной площади томились извозчики. Они ждали ездоков, но толпа проплывала мимо, толкаясь и поругиваясь, волоча свои мешки, баулы, чемоданы, застывая на миг, чтобы передохнуть и снова торопясь куда глаза глядят. От толчеи, от сверкания крестов, от позолоты вывесок, от извозчичьих пролеток, от разнаряженных пешеходов в котелках и шляпках кружилась голова.
— Спроси, как нам пройти на Мельничную улицу? — сказала бабушка, когда мы остановились напротив булочной.
— Я зайду в булочную.
— Только быстро!..
В булочной пахло раем.
— Тебе что, мальчик?
— Улица мне нужна, — облизал я пересохшие губы.
— Улицей мы не торгуем, — рассмеялся булочник. — Какая тебе нужна?
— Мельничная.
— Мельничная? Да сразу за водокачкой, — ответил булочник. — А ты кто, приезжий? — он скучал и хотел с кем-нибудь отвести душу.
— Да.
— Откуда?
Я сказал, и добродушный булочник всплеснул руками.