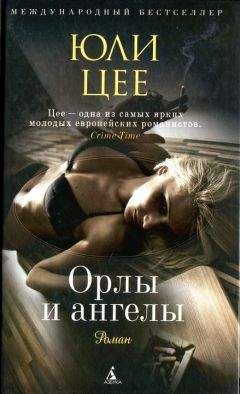Закуриваю еще одну сигарету с такой неторопливостью, как будто уж она-то наверняка окажется для меня последней в жизни; малейший жест хореографически четок — начиная со спички и заканчивая первой затяжкой. По завершении ритуала сигарета дымится у меня во рту, как бикфордов шнур, а голова становится бомбой, которая вот-вот взорвется.
Ладно, Макс, говорит Росс, поболтали — и будет. А теперь, пожалуйста, прямым текстом: есть у тебя хоть малейшее представление о том, где Джесси могла припрятать пароль?
Я совершенно не понимал ее, отвечаю я шепотом. Как знать, может быть, я ей еще что-то должен.
Только не реви, говорит он. Да ведь не в нас дело. В базе данных содержится компромат, достаточный для грандиозного скандала на высочайшем уровне. Если он выплывет наружу, с Евросоюзом будет покончено, а вся Европа до самой Атлантики превратится в сплошные Балканы.
И несколько извергов попадут за решетку, говорю я.
Прекрати, Макс. Ты, может, и хочешь умереть, но население целого континента не разделяет твоего желания.
Так уничтожьте сервер!
Разумеется, говорит, если нам все-таки не удастся добраться до материала, мы именно так и поступим. Не откладывая дело в долгий ящик.
Она была тебе сестрой, говорю я ему. Она страдала. А сейчас она мертва.
Об этом я с тобой дискутировать не собираюсь, говорит он.
Какая там дискуссия! Мне больше нечего тебе сказать.
Водит большим пальцем искалеченной руки по скатерти, размазывая лужицу пива. Если он и нервничает, то ничем этого не выдает. Он сейчас само равнодушие.
Ну так что же, спрашивает он тихим голосом. Есть у тебя пароль или нет?
Отвечаю: нет.
Я думаю о женщинах, похожих на муравьев, о Фу и о Фуле, и о том, что мне просто необходимо обсудить это с Кларой, необходимо спросить у нее, что делать, — мы ведь могли бы отыскать пароль и позвонить затем Шницлеру или в Гаагу; Клара получила бы тогда свой диплом, Джесси — свою месть, а Герберт, Росс и многие другие — то, чего они на самом деле заслуживают; на земле стало бы одной гнойной язвой меньше и одним международным кризисом больше, но что такое международный кризис по сравнению с дипломом Клары или местью Джесси! Но мне нужно время все взвесить тщательно и конкретно: где именно могла Джесси хранить пароль, и вообще, какое отношение все это имеет ко мне — к тому человеку, которым я стал в последнее время, — интересуют ли меня еще Балканы, Европа, Человечество. И как быть с Кларой. И чего на самом деле хотелось бы Джесси. Мне надо все продумать.
Чего ты хочешь, спрашивает он. Денег?
Мне, говорю, хотелось бы просто-напросто умереть.
Больше мы ни о чем не говорим. Да так или иначе, в кафе осталось уже слишком мало воздуха, чтобы по нему распространялись звуковые волны, здесь стало невыносимо душно, а я этого даже не заметил. Мы сидим себе и сидим; не уверен, что хоть один из нас способен сейчас думать о чем-нибудь. Сидим, выставив локти на стол, кельнерша, не дожидаясь заказа, подносит нам вновь и вновь напитки, которые мы распиваем. Мы сидим молча, но вместе, примерно так, как стоят рядышком два пустых ведра, и ты с первого взгляда видишь, что — парные, хотя внешнее сходство как раз может и отсутствовать.
Пугаюсь, когда шум, уже какое-то время стоящий на краях моего сознания, становится мне понятен. Снаружи доносится такой грохот, как будто над крышами города разламываются бревна величиной с самолет каждое, треща, как щепки в чьих-то исполинских руках. Серия взрывов заставляет мои веки затрепетать, мою диафрагму — завибрировать. Я спятил, раз проторчал здесь так долго, что-то меня, должно быть, вырубило. Алкоголь!
Ах ты, черт, кричу, Клара! Она же вам больше не нужна!
Не дожидаясь ответа, выскакиваю из-за столика.
Очутившись на улице, какое-то время прижимаюсь к стене, чтобы просто-напросто не рухнуть на тротуар. Никто меня не преследует. Поле моего зрения узко, виски ледяные, голова становится все легче и легче, ей хочется отделиться от тела и взмыть в воздух подобно шарику, вырвавшемуся из детской руки. Фасады домов вокруг меня то сливаются в сплошную линию, то оборачиваются пунктиром, они одеты белым мрамором, ненатурально поблескивающим, как при затемнении. Вот-вот я упаду в обморок. Следующий удар грома метит мне прямо в кишечник, меня страшно мутит, колени у меня подгибаются. Если я сейчас отступлюсь, то со стопроцентной гарантией никогда больше не увижу Клару.
Что-то падает мне на голову. Это первая капля дождя, и величиной она с мячик для настольного тенниса. Я пускаюсь бегом.
Дождь делает человека горбатым и отнимает у него шею. Становится все темнее, причем не постепенно, а рывками, как будто солнце не садится, а рушится из одной бездны в другую и из второй в третью. Машины медленно, с включенными фарами проплывают через лужи вниз по Бурггассе. Я бегу, я перемещаю тело в пространстве, словно оно принадлежит кому-то другому и этот другой — хорошо тренированный марафонец. В такт шагам я работаю руками — строго параллельно направлению бега, следя за тем, чтобы они не сжались в кулаки, иначе возросло бы сопротивление воздуха. На каждом шагу брызги, поднявшиеся из лужи, шлепают меня по коленям. Я слышу, как хлюпают у меня башмаки — хлюпают, но и стучат по асфальту, — и какое-то время спустя в этом стуке начинает слышаться нечто странное: как будто у меня не две ноги, а куда больше, как будто я не один, а великое множество, целая армия. Мы мчимся вперед. Мы опаздываем. Мы опоздаем.
Ветер остужает и раскачивает плотную занавесь дождевых струй, за нею мне повсюду видятся люди — как тени, мечутся они поближе к домам и скапливаются, как грязь в закоулках. Должно быть, все выскочили на улицу только затем, чтобы успеть добраться до дому, пока не хлынет. Слева и справа от меня перебегают они через дорогу, я один мчусь вдоль по улице, а не поперек. И это уже не тот город, в котором я провел последние несколько недель, не тот сухой каменный фон, на котором разворачивалась заключительная фаза моей жизни. Все течет и струится, расплывается и скользит подо мной и вокруг. Я больше не узнаю перекрестков. Я впадаю в панику при мысли о том, что городские кварталы начинают проваливаться под землю на привычном месте и всплывать на новом, площади играют в чехарду, улицы прокладывают себе новые колеи и русла; мне будет не найти наш двор, он и так-то скрывается где-то на окраине этого большого города, внезапно превратившегося в опрокинутый под дождем набор детских кубиков.
Лерхенфельдергюртель, вот где я сейчас, значит, мне теперь нужно направо; вообще-то говоря, я был уверен, что пробежал уже гораздо большее расстояние. А выходит, и половины пути еще не преодолел. Я неотступно думаю о том, что Клара, скорее всего, буквально в эти же мгновения и совсем недалеко отсюда, бежит точь-в-точь как я и столь же стремительно, столь же прямо, по залитым водой улицам, может, мы с ней уже и разминулись, и бежит она по направлению к Западному вокзалу. На повороте на Талиаштрассе я чуть не натыкаюсь с разбегу на стену автобусной остановки; в последний момент, защищая лицо, успеваю подставить руку и врезаюсь в плексиглас с наклеенным с внутренней стороны рекламным плакатом — «Liberté Toujours» значится на нем — и бегу дальше, мне удается даже несколько нарастить темп.
Я уже давно не видел ничего так ясно, уже давно не ставил перед собой такой однозначной цели. Мне надо к ней. Мне надо сказать ей, что все закончилось, что мы с этим справились. И что мне очень жаль.
На границе двух округов останавливаюсь и гляжу вниз по улице — в ту сторону, где начинается подъездная дорожка к автобану. Мои легкие болят и свистят, как будто в них закачивают, до упора, пока не лопнут, воду или кровь. Я утопаю изнутри, нельзя мне было останавливаться, вновь пуститься бегом я теперь не сумею. Размашистым и нетвердым шагом, прижав локти к бокам, преодолеваю подъем, за которым начинается Шестнадцатый округ.
И когда вижу наконец перед собой железные ворота, спешить мне уже некуда.
Каштан стоит, воздев от отвращения руки, посреди запустения, водосток в самом центре двора забит, «аскона» утопает по ободок колес. На мгновение я останавливаюсь возле машины: перевернутая спинка водительского сиденья кажется мне человеком, в отчаянии уронившим голову на баранку. Повсюду плавают разрозненные листы из Клариного регистратора, чернила на каждом расплылись в особую неповторимую акварель.
Дверь «домика» распахнута настежь, замок с мясом вырван из древесины и вместе с внешним засовом и прочими металлическими причиндалами болтается на дверной раме. Не могу понять, изнутри взломали дверь или снаружи.
Заглядываю внутрь. В «домике» все как всегда, но сейчас это производит на меня совершенно иное впечатление — заброшенности, — словно сюда долгие годы не ступала нога человека. Вода перехлестнула через порог и залила цементированную часть пола, которая ниже крытой досками. Я вспоминаю про мышей и думаю, куда же они подевались, как-никак все мышиное царство теперь на дне. На половицах и в воде лежат разрозненные документы и наши носильные вещи, на глаза мне попадается клок волос из Клариного парика. Книги на полу и в открытых ящиках, пустые пластиковые пакеты сети «БИЛЛА», чашки с, кофейной гущей на дне, стаканы, тронутые ржавчиной столовые приборы. И повсюду, как будто на пол осел целый рой красно-белых стрекоз, пачки из-под сигарет, смятые и пустые. Полная тишина, если не считать шума дождя, который здесь, во дворе, идет вроде бы более ровными струями, чем на улице. «Домик» кажется совершенно безжизненным — как макет, как выставочный экспонат в экспозиции, посвященной катастрофам и гибели целых городов. Как место, в котором умер последний из живших на планете Земля людей.