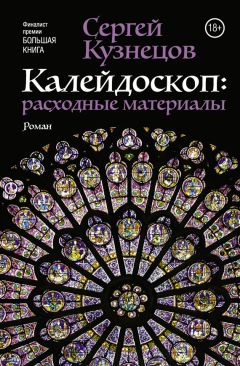– Мы обязательно должны соперничать? – говорит русский и смотрит сквозь очки большими глазами. – Разве мы не можем, как хиппи, любить друг друга?
– Все втроем? – смеется Камилла. – Нет, я не так голодна сегодня. Одного мужчины с меня хватит. И вообще – ты же читал Маркса в своем СССР? Конкуренция и соперничество – основа капитализма и свободного рынка. В этой конкурентной борьбе выиграет сильнейший, тот, у кого нарратив окажется побольше. Потому что чем бы вас, мальчиков, ни утешали, размер имеет значение.
– Хочешь сравнить? – говорит русский.
– Не хочу, – отмахивается Камилла, – потому что и так знаю. Ты же сам сказал: самые старые нарративы – самые большие. Ислам. Христианство. Старый добрый национализм. Вы и глазом не успеете моргнуть, как все это вернется – причем в самом диком виде, как в каком-нибудь Иране. Фундаментализм и всякое такое. Духовные основы, моральная нетерпимость, консервативные ценности, исконные традиции – в ход пойдет всё, что сможет объяснить вам, почему вы не похожи на соседа. Все, что сможет мобилизовать вас для соперничества с соседом. А всякая сексуальная свобода, мир, любовь и прочее отправятся в дальний чулан, откуда их, возможно, вытащат ваши внуки, уверенные, что сами придумали такие прекрасные вещи. Но сегодня уже только ты всерьез говоришь слово «хиппи» – и то потому, что провел последние двадцать лет за железным занавесом.
– Слово не важно, – говорит русский, – но люди не откажутся от того, что принесли им шестидесятые. И это не только секс-драгз-рок-н-ролл – это и уважение к правам меньшинств, борьба с расизмом и ксенофобией…
– С ксенофобией нельзя бороться, – говорит Камилла, – ксенофобия естественна, человек боится чужих и, к слову, правильно делает. А что до прав меньшинств – это просто трюк, который придумали белые в ожидании неизбежного момента, когда сами окажутся меньшинством. Но не думаю, что Третий Мир на это купится: все-таки старые нарративы будут посильней. Они выберут фундаментализм, а потом он перекинется и сюда, в Европу.
– Но Бог умер, – говорит русский. – Какой может быть фундаментализм без Бога?
– Ты образованный мальчик, – говорит Камилла, – ты знаешь, целое поколение, поколение Камю и Экзюпери, пыталось быть святым без Бога. Так что фундаменталистом без Бога тоже можно быть. И к тому же Бог умер не впервые, а если учесть, что до этого Он всегда воскресал, я бы не обольщалась… Помнишь, у Стивена Кинга? Иногда они возвращаются…
– Звучит страшновато, – после паузы говорит русский, – но вдруг ты ошибаешься? Нельзя же знать будущее.
Интересно, что чувствует парень, когда у него на глазах другой кадрит девушку, на которую он уже положил глаз? Каково это – быть неудачником? Только и остается, что налегать на местное светлое.
Губами я подбираюсь к запястью Камиллы, где бьется тонкая жилка, на секунду поднимаю голову и спрашиваю, глядя в темные антрацитовые глаза:
– Почему ты не носишь колец? Тебе пойдет серебро.
– Я не люблю серебро, – строго отвечает Камилла и левой рукой возвращает мои губы к прерванному поцелую, – не отвлекайся.
Я снова целую ее сухую кожу и улыбаюсь. Камилла поворачивается к русскому и говорит, что будущее нельзя знать, но можно предчувствовать.
– Хочешь, – говорит она, – я расскажу историю о детях, которые думали, что изобретают волшебный мир, а на самом деле – прозревали то, что ждало их собственный? Говоришь, ты приехал из Варшавы? Тогда представь себе польский городок, даже деревню, название которой тогда еще не попало в учебники…
Камилла рассказывает, но я не слушаю.
Закрыв глаза, я представляю наше завтрашнее утро.
– Ваше такси приехало, пани, – говорит хозяин. Камилла протягивает ему несколько мятых влажных крон и встает.
– Может, я тебя провожу? – говорит Митя.
Камилла качает головой:
– Не надо, – и рыжие волосы разлетаются во все стороны, – тебе это не надо.
На секунду задержавшись, она поворачивается и целует Митю в губы – коротким, жалящим поцелуем, острой вспышкой боли и возбуждения.
– Пойдем, – говорит она Вацлаву.
Они выходят, и влажный туман поглощает их.
В такси она спросила: правда ли, что чехи обирают туристов? Заманивают их, опаивают и грабят. Конечно, всякое бывает, подумал я, но вслух сказал, что это и есть та самая ксенофобия, о которой они говорили с русским, мы – нормальные цивилизованные европейцы, в Праге не опасней, чем в Париже, и вообще, мы едем к ней в гостиницу, если она хочет, я могу показать на ресепшене свой ID…
Камилла рассмеялась:
– Уж за себя-то я не боюсь!
Впрочем, в отеле нет никакого ресепшена: мы проходим темным садом, Камилла отпирает дверь своим ключом, и мы сразу идем в спальню: большая кровать, плотно задернутые шторы.
– Я знаю, ты любишь утреннее солнце, – говорит Камилла, – но я терпеть не могу, когда меня будит рассветный луч на бархатной девичьей щеке.
Она улыбается. Я помогаю ей стянуть футболку и опять думаю о русском пареньке, который, наверно, одиноко дрочит сейчас в своем дешевом хостеле. Слишком серьезный, чтобы нравиться девушкам. Если встречу снова – расскажу, в чем секрет. А то никто ему так и не даст – по крайней мере здесь, в Праге.
Я расстегиваю лифчик и, перед тем как сунуть в рот темно-красный сосок, чуть слышно шепчу:
– Я рад, что ты выбрала меня.
Камилла проводит острым ногтем по моим губам и отвечает:
– У русского не было шансов. Я предпочитаю local food.
Проклятое чешское пиво, думает Митя. Надо же так нажраться: полночи проворочался с боку на бок, уснул с рассветом, проснулся под вечер, голова раскалывается, трясет, будто в лихорадке. Простыл, что ли, или подцепил какой-нибудь местный вирус?
Он натягивает джинсы, плетется в туалет, плещет в лицо ледяной водой, с отвращением смотрит в зеркало. Ну и видок: мешки на пол-лица, капилляры полопались, глаза красные, как у кролика, да еще и нижнюю губу раздуло, словно от герпеса.
Фу, гадость. Надо, наверно, в аптеку, купить какую-нибудь мазь? Или лучше пластырь. И больше не надираться так бестолково. Ведь с самого начала, когда появился этот Вацлав, было понятно, что англичанка даст ему.
В Восточной Европе русские нынче не в моде. По всем статьям проигрывают в конкурентной борьбе.
Подхватив рюкзак, Митя выходит в вечерние сумерки. На краю сознания бьется слабое воспоминание, зыбкая тень недавнего сна, кошмара, липкого, как несвежее белье хостела, влажного, как пражский туман.
Ему снилось, будто они с Камиллой занимаются любовью. В темной спальне старого дома, за плотно занавешенными окнами. Страстный секс, какого никогда не было в Митиной жизни. Камилла бьется, кричит и стонет, кусается, царапает спину, а потом долго слизывает капельки крови, и Митя понимает: это не он, а Вацлав слабеет в объятиях рыжеволосой красавицы, это Вацлав бессильно замирает и проваливается в сон, такой же беспокойный и тревожный, как Митин… проваливается, чтобы проснуться на холодной земле среди надгробий Ольшанского кладбища.
Ни спальни, ни дома, ни сада. Никаких рассветных лучей, влажные пражские сумерки. Вацлава бьет озноб, вирус бессмертия бродит в его крови.
Биохимия, цедит Митя сквозь раздутую губу. Вот тебе и биохимия.
* * *
Ничего не подгадывал, все само сложилось: пара дринков в баре, несколько гитарных рифов из проезжающей машины, холодный ночной воздух, слегка обжигающий легкие… и в конце переулка, по ту сторону пешеходного перехода – ярко-красная неоновая вывеска. Он смотрел на нее, потому что как раз туда и направлялся, собственно, шел домой, и не так чтобы был пьяный или какой-то по-особенному взволнованный, но вдруг светофор переключился с зеленого на красный, вспыхнул неожиданной рифмой к этой вывеске, в динамиках машины дрогнули далекие гитарные струны – и он замер, зачарованный невыразимой красотой момента, его абсолютным совершенством.
Как оно сложилось? Он не знает. Ни раньше, ни позже с ним не бывало ничего подобного. Он хорошо запомнил это внезапное мгновение городской гармонии; никому не рассказал о нем, но если бы спросили, в чем было дело, ответил бы: «Этот миг принадлежал вечности – один-единственный миг за всю мою жизнь».
16
1945 год
День Трансфигурации
Эта история началась в один из тех неприветливых, холодных августовских дней, когда солнечный свет отливает не золотом, а, скорее, серебром, или нет – не серебром, а свинцом. К полудню тучи заволокли небо, пошел дождь, и могло показаться, что календарь только в насмешку относит август к трем летним месяцам. Старый поезд, направлявшийся в S**, с грохотом мчался между холмов Корнуолла. Поэты называли их изумрудными или хотя бы зелеными, но сегодня сквозь пелену дождя они казались такими же серыми, как затянутое облаками низкое небо.