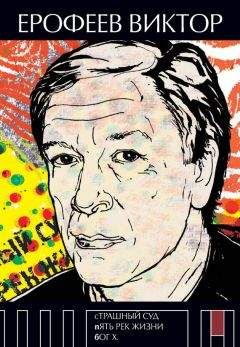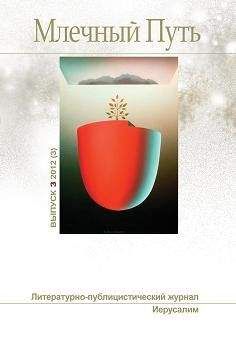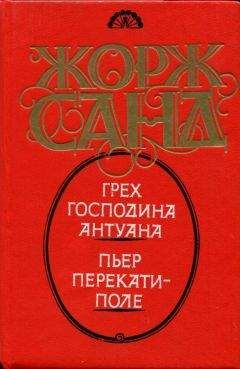— Клянусь звездой, когда она закатывается, — сказал я, — не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.
— Хвала Аллаху, господу миров, — отозвались имамы, — милосердному царю в День суда!
Я вынул ручные гранаты из своих белых штанов и стал ими в шутку жонглировать, стоя на ковре посреди мечети.
Имамы тихо вынули из-под скамейки пару пустых бутылок.
— Капитан велик, — сказали они, — но ты всемогущ и милостив.
Удовлетворенные нехитрым ответом, мы с немкой, схватившись за руки, уехали на автобусе на могилу Василия Сталина, умершего здесь в хрущевской ссылке. У Василия — отбитая фотография, искусственные цветы и венки, восточные сладости траурных принадлежностей. Восточных деталей России не занимать. Взять хотя бы тот же автобус. Кабина водителя — со всякими занавесочками, рюшечками, иконками и салфеточками — это скорее алтарь, чем кабина. Такая кабина гораздо ближе к Индии, чем к Европе.
На дне
За завтраком ко мне подошел капитан с озабоченным видом.
— Из каюты вашей немки всю ночь доносились страшные крики, — сообщил он.
— Не обращайте внимания, — усмехнулся я. — Ей снятся кошмары. Ее дедушка воевал под Сталинградом.
— Ах, вот оно что! — успокоился капитан. — В Самаре, — дружелюбно добавил он, — не забудьте посмотреть бункер Сталина.
В каждом русском городе — своя невидаль. Тамбов славится небоскребами. Орел — пирожными, Тула — ночными поллюциями, Астрахань — прародина компьютеров. Самару Борис Годунов повелел заселить сволочью. В Самаре черным-черно от рабочих.
Рабочая сила кормила нас шоколадными конфетами, поила коньяком и не задала ни одного вопроса. Мы тоже ни о чем не спросили. Мне нравится пролетарское гостеприимство.
Объевшись шоколадными конфетами, мы зашли в здание бывшего обкома партии, выстроенное в духе купеческого эклектизма 1880-х годов.
— А где тут можно у вас покакать? — окликнула немка усатую гардеробщицу, суча ногами от нетерпения. Мы сразу попали в культурологический нерв. Русская женщина открыто просится только по малой нужде. «Я пошла писать», — весело заявляет она. Но большую нужду скрывает с таинственностью, достойной шпионского фильма. В просторном холле нас проводили к скромной двери. За такой дверью в России обычно находится мелкое помещение для уборщицы: стоят ведра, швабры, висит серый халат. Но когда дверь открылась, мы с немкой в один голос ахнули: это был вход в огромный подземный мир.
— Эх, подвели нас родные попы, — вдруг сказал кто-то рядом. — Всю веру обломали, как черемуху.
Я привык, что в России люди везде говорят о самом важном и даже не оглянулся. Прикрытое четырехметровой бетонной плитой подземелье, о котором никто не знал в городе вплоть до недавнего времени, стилистически напоминает ствол московского метрополитена, опрокинутый вниз на тридцать семь метров.
Спускаясь в головокружительную шахту, с дополнительными поэтажными перекрытиями, способными в совокупности противостоять ядерному удару, мы, в сущности, спускались в национальную преисподнюю. На самом дне во всей красе перед нами предстал кабинет Сталина с настольными лампами в угрюмом стиле модного деко, со множеством фальшивых дверей, ведущих в никуда (защита от клаустрофобии), — точная копия его кабинета в Кремле. Напрашивался рой метафор. Русская душа демонстрировала со всей очевидностью свою дьявольскую хитрость, бесхитростность и глубину.
— Капитан слышал, как ты кричала, — сказал я моей немке в сталинском кабинете.
Открылась фальшивая дверь. Вошел капитан. За ним — бритоголовая команда речников-добровольцев.
— Ты брал пустую посуду в Казани? — спросил капитан, усаживаясь за генералиссимусский стол.
— Капитан, — с достоинством сказал я, — это что: допрос?
— Введите их, — сказал капитан по красивому правительственному телефону-вертушке.
Двое головорезов ввели имамов. Хорошо избитые люди всегда похожи на загримированных.
— Ты не пощадил даже их! — вскричал я.
— Замуруйте их в сталинском сортире, — распорядился капитан. — Всех четырех!
Нас быстро принялись замуровывать, забрызгивая от спешки раствором. Немка тем временем бросилась к унитазу диктатора.
— Это не от страха, а потому что очень хочется, — сказала она, обнажая зад и боясь обвинений в трусости.
— Имамы, — сказал я. — Где сила вашей молитвы?
Имамы, сосредоточившись, запели главный духовный гимн:
— Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кого Ты облагодетельствовал, — не тех, кто находится под гнетом, и не заблудших!
Раздались автоматные очереди. Под своды бункера ворвались боевики татарского батальона «Счастливая смерть». Они стремительно съехали вниз по свежекрашеным коричневым перилам. Но наши русские речные матросики, наши простодушные мучители, тоже оказались не промах. Они прыгали с перекрытия на перекрытие и раскачивались на руках, как тропические обезьяны. Капитан повел ребят в бой. Завязалась подземная Куликовская битва. Я не знал, за кого болеть. Я любовался и теми и другими. Русское войско, наконец, ушло в фальшивые двери. Мусульмане добили раненых и с удивлением уставили на нас свои дымящиеся автоматы.
— Это подобно саду на высоте, — сказал я боевикам, в восхищении поднимая руки. — Бьет дождь его без жалости, и приносит он урожай двойной.
— Он — парень неплохой, — сказали имамы, отряхивая свои черные шапочки с золотым шитьем. — Захотел сдать пустую посуду, а капитан бутылки отнял.
— Русский скандал, — улыбнулись боевики. — Немку будем ебать? — обратились они друг к другу с риторическим вопросом.
— А за что ее ебать? — осторожно вступился я.
— У меня и так вся спина в рубцах, — призналась немка.
— Ну бегите, — сказали боевики, — а то опоздаете!
— Если решу принять мусульманскую веру, я знаю, к кому обращусь, — сказал я добрым имамам на прощание и, расчувствовавшись (они тоже расчувствовались), рванул с женщиной вверх через три ступени, минуя лужи человеческой крови.
Самара — Саратов
После Самары на Волге сгустился туман, и река вдруг раздалась, покрылась островами с густой растительностью, полностью одичала. Это уже была не Волга — Амазонка. Пошла крупная волна. В ночном баре падали бокалы. Все 100 журналистов провинциальной российской прессы плясали и пили, пили и плясали. Мы с немкой сидели в углу: наблюдали.
Русские пляски не похожи на ночные берлинские танцы. В русской пляске сохраняется первобытный элемент истеричности, требующий почти немедленно словесного довеска в виде исповеди. Впрочем, простой народ редко кается. Вместо исповеди он горлопанит. Он так орет на улице песни, как никто нигде не орет. Иное дело — русский журнализм. Все сто журналистов хотели поделиться всеми своими нутряными тайнами. Женщины рассказали, что они — жертвы брака: их мужья — алкоголики, дети — наркоманы. После работы в редакции они ездят на загородные участки сажать картошку: денег не хватает. Маленький Дима-негрс Сахалина сообщил, что он жертва Афгана и хуесос. Бухгалтерша сорока восьми лет жертвенно показала мне свои груди.
— А где исповедь? — не понял я.
— Разве они не достаточно красноречивы? — возразила бухгалтерша.
— Три брака, две дочки, пятнадцать абортов, — вглядевшись, как хиромант, сказал я.
— Сошлось, — сказала бухгалтерша, застегивая бюстгальтер.
Молодой человек из уральского города признался, что он — жертва пера: пишет гениальные стихи, но стыдится показывать. Я попросил прочитать хотя бы одно.
— Зачем? — застыдился поэт.
Каждый поэт в России мечтает умереть под забором. Я не стал настаивать. Новосибирский журналист, с лицом умирающего Ленина, признался, что сотрудничал с КГБ.
— И зачем тебе банка? — спросил он меня в свою очередь.
— Надо.
— Экуменизм не пройдет, — заверил он.
— Лора Павловна! — крикнул я. — Нельзя ли шампанского?
— Кончилось! — враждебно огрызнулась буфетчица. — Да что ж ты такое выдумал? — запричитала она. — Воду матушкиВолги нельзя брать на анализ!
Журналисты подсобрались на шум.
— Ну что, — сказал я, обратившись к присутствующим. — Выживет Россия или пойдет ко дну?
— Мы лучше всех, — раздался общий ответ.
— Еще раз о национальном запахе, — сказал я немке, медленно возвращаясь к ней за столик.
Я иду сквозь строй бомжей, проституток с площади трех вокзалов, железнодорожных ментов, поднимаюсь по лестнице к гардеробщикам престижных казино, барменам, крупье, клиентам, стриптизеркам, и мне все говорят: «Мы лучше всех». Я захожу в новейший туалет со стереофонической музыкой. Кабинки заняты. Дверцы распахнуты. В Европе блевать — жизненное событие, как и аборт, об этом в конце жизни пишут в мемуарах. Здесь — рутина. И все эти «мы лучше всех», по-флотски расставив свои мужские и женские ноги, блюют. И, кажется, если в богатейшей стране на излете архаического мышления мы не разуверимся в своей превосходной степени, то мы заблюем весь мир.