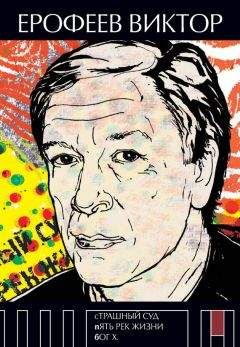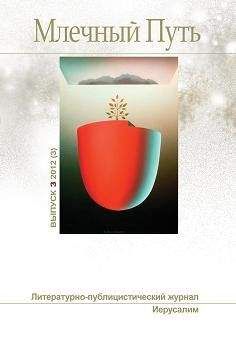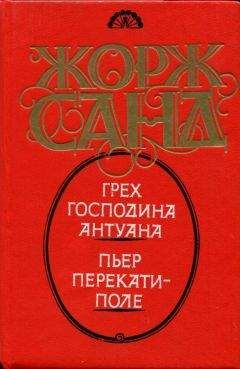Но особенно отличилась красавица Наташа из газеты подмосковного города О., что танцевала в очень коротком платье, похожем на прилипшую к телу тельняшку. Она подошла к нам, резко села за столик:
— Ну, как вы думаете? У меня под платьем есть белье или нет?
Я сразу понял, что ничего там у нее нет, кроме желания, но она перебила, не дослушав:
— Я никогда не спала с женщиной, у меня, сами понимаете, были комплексы, но я бы хотела попробовать.
Немка, не чуждая женским привязанностям, погладила ее по длинным волосам.
— Я уже полюбила твою прямую кишку, — сказала она, показав Наташе свое экстремистское тату на бедре.
— Но вообще-то я предпочитаю его, — кивнув на меня, сказала ей Наташа на ломаном английском языке.
Меня всегда умиляет блядовитость русских девушек.
— Рыбка! — сказал я, подняв брови.
— Хочу! Хочу! — обрадовалась она.
Тут немка не выдержала и, ссылаясь на головную боль, потащила меня на палубу смотреть на туманную Амазонку.
— Они сумасшедшие, — сказала она.
Весь Саратов прошел в выяснениях отношений. Говорят, Саратов по-монгольски значит «Желтая гора». Местные националисты борются с этой этимологией насмерть.
Подвиг Голубинова
В картинной галерее Саратова много шедевров. Иногда вдруг наедет экскурсия школьников, поорет, поиграет в прятки, полюбуется живописью Репина и Малевича, и вновь тишина. Мы встретились с Голубиновым перед картиной неизвестного итальянского художника пятнадцатого века, изображающей Мадонну с ребенком и двух ангелов, больных конъюнктивитом. Голубинов — интеллигент тридцати двух лет. Худой, в очках, как Чернышевский, но от сходства отказывается. В руках у Голубинова была авоська с трехлитровым на вид предметом, бережно завернутым в саратовскую газету.
— Для анализа, — сообщил он вполголоса. Я кивнул. Мы вышли на улицу.
— Зачерпнем поздно вечером, перед вашим отплытием, — сказал Голубинов. — Показать вам город?
— Лучше поговорим, — сказал я, оглядевшись вокруг.
— Как угодно, — поджал он губы.
Провинциалы обидчивы, но им нельзя потакать.
— Хотите ужинать?
— Хочу.
Мы очутились у него в квартире. Сашенька Голубинова встретила нас в нарядном платье.
— Утка стынет, — улыбнувшись, сказала она.
Мы быстро сели за стол, полный всяких закусок, и выпили водки.
— Почему у вас перевязана голова? — спросил я у Голубинова.
— Хулиганы, — рассеянно ответил он.
— На рынке, — улыбнувшись, добавила Сашенька Голубинова. — С топорами.
— Перестань, — запретил ей Голубинов.
На меня стали падать книги. Дореволюционные тяжелые тома Достоевского. Старые открытки вылетели из альбомов и разлетелись по всей комнате. Почти курортная пристань Саратова. Виды Саратова. Люди Саратова. Мы бросились их подбирать. Под столом мы встретились с Голубиновым.
— Вы знаете, что Бог умер? — спросил я.
— До Саратова дошли слухи, — подтвердил он.
Мы стали есть полутеплую утку, запивая сладким вином.
— Трудно поклоняться неживому богу, — вздохнул Голубинов.
— Один буддизм еще крепко держится благодаря своей парадоксальности, — заметила бывшая студентка Сашенька.
— Рождение нового единого бога так же неминуемо, как сведение компьютерных программ воедино, — рассудил Голубинов. — Просто это на очереди. Смешно видеть дешевую конкуренцию разных религий.
— Многопартийная система богов, — подытожил я. — Но не лучше ли оставаться при ней, имея шанс менять хозяев?
Некоторое время мы ели утку в молчании.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — неожиданно весело добавил я. — Возникновение одного божества. Первая по времени метафизическая революция двадцать первого века.
— В Европе Бог и святые скукожились и стали напоминать корейскую пищу, — сказала Сашенька.
— В язычестве было много богов в рамках одной веры. Сейчас много богов в рамках всего человечества, — подумав, сказал Голубинов. — Следующий закономерный шаг — объединение богов.
— Божественный пантеон — он разрешительный, терпимый, но не насыщен креативной энергией будущего, — глубоко задумалась Сашенька.
— Свобода выбора Бога — большая человеческая свобода, — сказал я. — Однако поправка должна быть внесена в божественный имидж, а это развернет ситуацию неожиданным образом в сторону тотального единобожия. Справятся ли люди с этим, и если справятся, то как?
— Однако, как можно доверять человечеству, и не окажется единый новый Бог чем-то наподобие диктатора, который окончательно убьет всякую свободу? — спросил Голубинов.
— Так вот что значат пять рек жизни! — прозрела Сашенька.
— Да, — сказал я, — пять рек жизни — это ожидание чуда нового откровения.
— И вы его ожидаете?
— Он и естьчудо, — серьезно сказал Голубинов, показав Сашеньке на меня.
— Почему Россия — такая горькая страна? — спросила меня Сашенька в упор.
— Анализ покажет, — сказал Голубинов. — Ну все. Пора.
Мы встали, подошли к двери.
— А тут у нас жила бабушка. А потом умерла, — сказал Голубинов.
Крадучись, мы стали спускаться к Волге. Вдалеке стоял мой теплоход с приятной танцевальной музыкой. Я знал, что немка рассматривает нас из каюты в ночной бинокль. Голубинов вытащил из авоськи сверток, зашел по колено в воду.
— А вы знаете, теплая, — тихо удивился он, опуская банку в воду.
В ответ протяжно загудел теплоход. Вдруг банка в руках Голубинова разлетелась вдребезги. Вдруг Голубинов тихо ойкнул, пошел ко дну.
— Ну сволочь, так не честно! — сказал я, в мыслях обращаясь к капитану.
Гибель богов
Редкий русский идет в сауну с чистыми помыслами. Я вошел в сауну с ручной гранатой. Капитан сидел на полке с четырьмя телками. Одна была буфетчица Лора Павловна, другая — красавица Наташа, третья оказалась мужчиной — помощником капитана, четвертая была совсем голой. На мое удивление она проявилась распаренной немкой с экстремистским тату на бедре.
— Здравствуйте, капитан, — сказал я миролюбиво. — Вы видите этот кусок битой посуды? — Я показал ему осколок. — Привет вам от Голубинова.
— Я не понимаю всей этой истории с битой посудой, — сказала мне немка, инстинктивно опасаясь взрывов и русской стрельбы. — Я все понимаю, но при чем тут битая посуда?
— Ты свободна, — сказал я немке. — Наташа тоже пусть выйдет отсюда и утешит тебя. Идите, побрейте друг другу ноги. Лора и помощник могут остаться. Мне не жалко.
— Подождите, — сказал капитан. — Не бросайте гранату! Лора, выдай ему стеклянную банку. Он — маньяк. Я сдаюсь.
— Хотите, я наполню банку волжской водой? — услужливо предложился помощник капитана.
— Отдыхай, черная сотня, — сказал я. — Лора, несите банку.
Лора босиком побежала за банкой.
— Я государственник, — сказал капитан с поднятыми руками, — но к смерти я не готов. Хотите выпить?
— Не откажусь.
Капитан опустил руки и разлил водку по стаканам.
— Ну, за ваш анализ! — сказал капитан. Мы хмуро выпили.
— Хотя, что такое анализ? — спросил капитан, хрустя огурцом. — Не русское это дело. Я и сам без анализа знаю, что вода здесь течет не живая, а мертвая. Понял? Ну, вот такаямертвая! Совсем мертвая!
— Какой же ты тогда государственник? — удивился я.
— Так я потому и государственник, что вода гнилая, — сказал он.
— А если я ее оживлю? — сказал я.
— Кишка у тебя тонка, — сказал капитан. — Не такие, как ты, пробовали! Ну, давай, наливай! — сказал он помощнику.
— Что такое русский? — сказал капитан, снова выпив водки. — Русский — это, прежде всего, прилагательное. Китаец — существительное, француз — тоже, негр — и то существительное!
— Даже еврей, — вставил помощник, — жидовская морда, а существительное!
— Правильно, — одобрил капитан. — А вот русский — он прилагательное.
— К чему же он прилагается? — спросил я.
— Вот я всю жизнь живу и думаю, к чему он прилагается, и, выходит, он ни к чему не прилагается, как его ни прилагай. Русский — он что, если разобраться? Доказательство от противного. Одним словом — апофатическая тварь.
Свет вырубился. Сауна стала тьмой. Мятежники схватили меня за горло железной рукой.
— Ну, вот и все, — сказал капитан. — Включайте свет, Лора Павловна.
Буфетчица с хохотом выполнила команду.
— Нам с тобой, друг мой, на этом свете вдвоем не жить, — не без трансцендентной грусти заметил капитан, связывая мне руки за спиной. — Или ты, или я. Так что будем тебя мочить.
— А перед этим трахните его! — оживленно сказала Лора Павловна.
— Непременно, — заржал помощник.
— Вы чего! — возопил я. — Во всем мире гомосеки трахаются полюбовно, а вы тут в России превратили половой акт в позор и тотальное унижение!