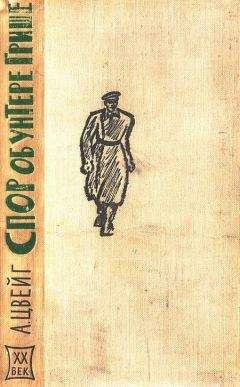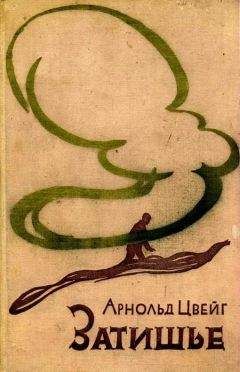Голубые сумерки. Проходя через двор, он с удивлением замечает, сколько уже нанесло свежего белого снега: глубоко засыпаны все выступы, крыши, бревна. На электрических проводах напорошило толстые слои, столбы оделись в высокие шапки. К лицам льнет ночной воздух. Он весь струится, набегает волнами, веет белыми призраками.
— Вкусно, — говорит он с улыбкой Герману Захту.
— От него жажда, — отвечает немец, который во время сербского похода достаточно натерпелся от замены отсутствующей воды снегом.
— Пустяки, — смеется Гриша, — снег — вещь чистая. Так и хочется лечь в него, как в хорошую кровать.
Затем он озабоченно смотрит на Захта.
— Если придет эта женщина, Бабка… Хотелось бы с ней потолковать.
— Ладно, — говорит ефрейтор. — Сделаем. В приказе не сказано: «Не допускать посетителей». Но она ведь никогда не приходит раньше шести. Боится наскочить на фельдфебеля.
Вечер. Познанский сидит за столом, Винфрид примостился на кушетке, а Бертин бегает взад и вперед по комнате. Винфрид утверждает:
— Альберт, как неуравновешенный школьник, решил телеграфировать раньше, чем очутился лицом к лицу с Лиховым. Его приказ вышел в половине четвертого, а посещение дяди было назначено на половину пятого. И если господин учитель в лице Лихова пристыдит мальчишку, он передумает и отменит свое распоряжение. Я твердо уверен в том, что эта телеграмма будет отменена еще до ужина.
У Познанского выдался мрачный день, а в такие дни он особенно часто прибегает к цитатам.
— «Когда слышишь нечто подобное, мир не привлекает тебя». — Он не продолжал цитату вслух, но досказал ее про себя.
Прежде чем уйти, Винфрид позвонил унтер-офицеру Маннингу и сообщил, где его можно найти, если по делу Папроткина будет передана телеграмма от дяди в комендатуру или лично ему: вечером он в казино, до одиннадцати — в солдатском клубе — тут есть такое протестантско-саксонское учреждение, смеется он в трубку, — если у вас есть охота, приходите. Там будут сестры, музыка, мы приятно проведем время. А попозже — звоните на квартиру.
Он ждет обычной небрежно-остроумной шутки со стороны богатого юноши, одного из тех образованных берлинских купцов, без помощи которых драматические театры города никогда не поднялись бы на такую высоту. Но Маннинг ответил серьезно:
— Мне ничего не стоит отлучиться, господин обер-лейтенант, хотя я и дежурный. Дело в том, что метель, к сожалению, оборвала все провода в западном направлении. Мы бьем баклуши.
— Что? — кричит Винфрид так растерянно и громко, что испуганный Познанский роняет сигару на стол. Маннинг подробно объясняет, на основании последних сводок, какие районы охвачены метелью.
— Восстановить связь в западном направлении невозможно. В большом лесном районе между Баклой и границами губернии все провода, по-видимому, оборваны и спутаны в сплошной клубок. До завтрашнего утра ни один монтер не высунет носа наружу. Последние известия пришли оттуда в половине пятого. Телеграфная передача прервана. Надо полагать, что если повреждения исправят не скоро, Брест, вероятно, прибегнет к помощи летчиков.
— Боже милостивый, — бормочет Винфрид, — пропал, значит, парень! — и вытирает пот, внезапно выступивший на лбу.
— В чем дело? — допытывается Познанский, — да говорите же, вы о нас совсем забыли!
Винфрид объясняет, что случилось.
Трое мужчин яростно и обескураженно уставились на снег, который густо усеял черные выступы окон и которому они еще недавно радовались, как освободителю от тумана, слякоти, пыли и грязи Мервинска.
— Ничего, значит, не поделаешь! — пришел наконец в себя Познанский. — Кто-нибудь из нас должен переговорить, в таком случае, с Бреттшнейдером. Если он благоразумен, то подождет, пока телеграфная связь опять восстановится. Если и тогда его превосходительство не протянет руку помощи, этому Ироду все-таки доведется убить невинное дитя.
— Нет, — слабо улыбается Бертин. — Ирода здесь разыгрывает некто другой.
И им представился восседающий на троне тетрарх, в митре, с отвислыми шиффенцановскими щеками, с носом попугая и орденом «Пур ле мерит» на груди.
Глава первая. Бабка готовится
Бабка, как и следовало ожидать, не подозревала ни о чем. Она пришла вечером в уютное, накуренное караульное помещение, где Гриша, наслаждаясь теплом, сидел в сторонке у стены, погруженный в размышления. Она поздоровалась со знакомыми. Радуясь новому впечатлению, они встретили ее возгласом «алло!». Они ждали от нее новостей, как от всякого нового человека, который, приходя извне, приносил с собою отголоски жизни таинственного города Мервинска. Она все еще продавала фрукты — зимние яблоки, — а также сигареты, русские булки и чаще всего аппетитные капустные или творожные пироги на дешевом жиру из контрабандной, без законной примеси, муки. Эта женщина с загорелым лицом находила меткие скупые ответы на каждую обращенную к ней шутку. Она бесспорно выглядела пополневшей. Но, конечно, никому не приходило в голову, что она беременна, уже на седьмом месяце и носит в своем чреве дитя. Как у многих женщин, ребенок лежал у нее не спереди, а откинувшись к спине, уютно скорчившись в теплой плаценте, заполняя растянутое туловище матери, но не раздавая его.
Солдаты уже не относились к ней как к старухе, но и молодой ее никто не считал. В солдатских сапогах, в неуклюжей юбке и в платке она казалась обыкновенной торговкой. Кроме того, привычка видеть в ней «старую бабу» притупляла наблюдательность солдат.
Бабка присела на корточки возле Гриши и испытующе посмотрела на него. Его лицо казалось ей вытянувшимся, странным, очень спокойным. Просто и грубо рассказал он ей обо всем, что произошло.
Факт прибытия телеграммы от Шиффенцана был совершенно неизвестен караульной команде, однако здесь царила такая единодушная уверенность в гибели Гриши, что Бабка, далее не имея осязательных доказательств, была совершенно потрясена. Так уж был устроен мир.
Она давно знала это. Для нее в этом не было ничего нового. Точно чья-то рука схватила ее за сердце — у нее сперло дыхание. Быстро стала она растирать ладонью лоб и разминать затылок и голову левой рукой, в то же время отчетливо сознавая, что теперь настал ее час, что надо действовать, добиваться освобождения Гриши. Теперь уж она должна вмешаться, хотя бы и против его воли.
Она глубоко, как только могла, вздохнула несколько раз подряд, ей стало лучше. Тихо дремавший младенец, которому ее испуг не причинил вреда, блаженно плавал в своем пруду. Конечно, Грише нельзя ни о чем говорить; это так же бесполезно, как если бы она стала убеждать своего малютку. Они оба упрятаны в тюрьму, обоим надо выйти из нее. Их обоих нечего об этом спрашивать.
Она спокойно прикинула на глаз число присутствовавших в караульном помещении солдат. Ее водки, которую она приправила травами и попробовала кончиком языка, ее прекрасной зеленой, охлажденной в снегу водки хватит для того, чтобы по крайней мере на пятнадцать минут снять стражу у всех этих незапертых дверей.
Ей, разумеется, не приходило в голову, что уже малейших признаков отравления у первых пострадавших будет достаточно, чтобы были созваны люди из других солдатских бараков. Весь сложный и легко приводимый в движение аппарат военной тюрьмы был вне сферы ее понимания и опыта.
Перед ее внутренним взором стоял лишь короткий путь от караульной, через коридор, наискось, ко второму двору, к воротам и затем вдоль ограды — в какой-нибудь мервинский переулок. А там пусть немцы попробуют найти Гришу. Она погладила его ослабевшие, свесившиеся вдоль бедер руки и спросила:
— Когда?
— Вот и хорошо, Бабка, — ответил он, — вот это радует меня! Женщина, когда она спокойна, стоит больше, чем десятина земли. Никто не знает — когда. Тут еще будет немало возни. Я думаю, что едва ли завтра утром; они еще дадут мне спокойно поспать. Вряд ли и завтра днем: этого, видишь ли, не дозволит служба. Но к послезавтраму они могут, пожалуй, все наладить. Тогда завтра утром об этом сообщат фельдфебелю, и он приготовит людей на послезавтра. Знаешь, — он встал при этом, — теперь мне хочется спать. Если бы ты могла посидеть у меня, то мне спалось бы еще лучше. У тебя в животе младенец от меня, а ребенок Марфы, наверно, уже ползает и прыгает по кухне, я не увижу никого — ни твоего, ни ее ребенка. Когда-нибудь наступит же мир, — прибавил он, положив руку на голову сидевшей на корточках Бабки, — тогда поезжай со своим ребенком в Вологду. Это далеко отсюда, но все равно, железная дорога довезет тебя. Тогда вы сведете вместе детей — твоего и ее ребенка — и будете вместе ругать меня. — Он улыбнулся, пожал ей руку и удалился.