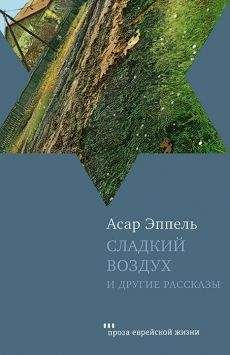И не знает он, что сиротский плач его, его непоправимая наивность и ненужность, его чудеса в коробочке, его красоты без безобразного, его смычок — кривая сабля народа, которая не только не способна с широких плеч отсечь башку татарину, но за пару тысячелетий так и не смогла перепилить свои жалкие скрипочки, всегда останавливаясь на первом же стоне своей жертвы, недоубивая ее, зато истязая и доводя до плача; не знает он, что сиротский плач его уже остановлен в пространстве и во времени, зафиксированы банальные скрипачи, химерические невесты и травяные улицы. Не знает он о сиротских плачах полубанального творца этих чудес, о котором здесь, на здешней травяной улице, никто даже слыхом не слыхивал, а услышит разве что когда-нибудь только мальчик с голубым аккордеоном и то, если не помрет в своих больницах и не зачитается химерами из жития Ферапонта Головатого; не знает он, что этот художник уже исторг из себя все, что неисторжимо и нерасторжимо, плюс себя самого и его самого, и по-сиротски плакал этот художник, каждый раз плакал и не мог наплакаться, пока не уложил на травяной улице меж домов покойника, и тогда сразу же отрыдал по всему. А Семен наш плачет и не знает, что покойник уже провиден, проречен художником, победоносно шлифующим эспланады черт его знает где.
Старик Никитин обмыл и вытер коровьи задние ноги, хвост и все прочее, но корова опять обузенилась, и труд пропал. Однако старик Никитин не выругался, а только сузил страшные свои бесцветные глаза. Он снова обмыл и досуха обтер корову, полагая, что, пасясь, она лизнула нездоровый для скотины алатырь-камень.
— Проворонили! — сказал он.
Старик Никитин подсчитал налоги, но допустил описку, начертав слово «Итог» с твердым знаком — Итогъ. Пришлось переписывать. Однако старик Никитин не выругался.
— Проворонили! — повторил он.
Старуха Никитина дала ему в чашке еды, и он, сказав молитву и незаметно перекрестясь, стал быстро есть, но тут мимо окна по летней улице ненамеренно прошел курящий человек и в комнату влетел запах табаку. Старуха Никитина быстро захлопнула створки, а старик Никитин снова сузил страшные бесцветные глаза и тихо сказал:
— Проворонили!
Старик Никитин достал откуда надо толстую книгу с твердыми знаками, сел, чтобы в окно, которое старуха снова отворила, не видать было его с улицы, и безо всяких очков стал читать. Однако тут же раздумал и, вовсе сузив страшные бесцветные глаза, снова не выругался, а тоскливо решил:
— Проворо-о-о-нили!
В этот момент издалека-издалека прилетел тихий звук двойного выстрела. Он сперва раздался над Ленинградским шоссе, затем, свернув на Химки, полетел над левым берегом Москвы-реки, потом над Петровско-Разумовским, потом поколотился эхом в разные стороны и достиг наших краев.
Старик Никитин разузил страшные свои глаза, встал и одернул косоворотку. Встала и старуха Никитина. Они глянули друг на друга и незаметно перекрестились. Причем старик Никитин уже в который раз не выругался, но зато просто и удовлетворенно сказал:
— Про-во-ро-ни-ли!
В первый раз молвлено было, оттого что корову оставили без присмотра; во второй — потому, что дорожившие твердым знаком даже в свое время и не заметили, как литеру эту у них изъяли; в третий раз упало слово из-за незатворенного от греха окошка; в четвертый — как тоскливый вздох по утерянному священству от Исуса Христа, каковое раскольники, подсчитывая у никониян персты, зверея и страдая по мелочам, забыли озаботиться продолжить и опростоволосились, проморгавши законных архипастырей и храмы Божьи.
Последний же раз сказалось слово по причине двух далеких выстрелов.
Стреляли у Химок. На Москву шли немцы. Столица в те дни тоже оказалась без присмотра, и на травяных улицах все домовладельцы и домовладелицы немцев ждали и не могли дождаться.
Чтобы время уходило проворнее, старик Никитин расположился читать Книгу Товита, а старуха Никитина, тоже действуя без очков, принялась скоблить деревянную блюду для хлеб-соли.
…Я, Товит, во все дни жизни моей ходил путями истины… и было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего… я лег спать за стеною двора… и, когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои, и сделались на глазах моих бельма…
Все сразу встало на свои места. Он — Товит, которому в очи наделал воробей (безбожная власть), но ангел Рафаил вернет сына домой и с исцелением (Колька Никитин сидел за мелкое воровство), и спадет пелена с глаз, пусть зрячих, но путающихся с «ером», хотя именно «ер»-то и будет спасен, и найдется в молдаванских землях — дак и в германских, может! — епископ истинныя веры…
На епископе благолепное настроение старика Никитина сразу кончилось. Нет, не найдется! Не найде-о-о-тся! И виноват, страшно сказать, святой протопоп! Поди же ведь! Ну уж он-то как? Как же он-то?..
— Проворонили-и-и! — страшно сказал старик Никитин, и страшные бесцветные глаза его страшно сузились.
Прав он был, можно сказать, во всем, но только не насчет Товита. Товитом был — вернее будет — Хиня, обитавший через дорогу за колонкой, которой сейчас не очень попользуешься, потому что вся она облеплена горчицей.
Горчицей? Что за сумбур такой? Хиня, корова, Товит, священство от Богочеловека и горчица, которой облеплена водоразборная колонка? Нет, не сумбур это вовсе. Это таким образом — закономерно, хотя и своеобразно пресуществляются Великие События на поросших травой маленьких улицах, иначе говоря, в бытованье простых людей. Но не только, не только простых! Ибо будь ты хоть кем, ты очень недалек от коровы, и утреннее молоко твое миновало между выменем и твоей чашкой ну три, ну четыре пары рук; воду — Товит ли, староверский ли мученик или диктатор — ты частенько берешь из водопровода или источника сам; горчица на столе у тебя — нечто ты или ничто; и в обиходе твоем, где, когда и кем бы ты ни был, глагол «облеплять»: воробьиное «теплое» облепило глаза твои в Святой Земле, мучители-никонияне облепили тя возле прямо государева терема, облеплен нечистым коровий зад и горчицей облеплена телячья котлета, когда Молотов обедает с Гитлером.
Люди проживают жизнь по сути одинаково, хотя и считается, что по-разному. А разное, оно хоть и разное, но внешнее, ибо облепленная горчицей котлета и облепленная горчицей колонка причастны, как ни странно, одному и тому же, а для действия облепления, слава Богу, есть глагол!
Кидали вы камни, читатель? «Кидал! — скажете вы. — Начиная с камня из пращи и кончая камнями в чужой огород». Чем же кидаться лучше, а чем — хуже? Отвечаю:
Плох, швырять его, обломок кирпича — большой неудобен, а маленький не имеет веса. Не лучше летят коричневые бутылочные осколки. Скверно кидать мелкие ворованные яблоки, сухие комья земли, прошлогоднюю пустую картошку и наспех насаженные колуны.
Хорошо метать комки сырой замазки, гладкие морские голыши (но это вещь привозная), зеленые средней величины огородные помидоры, скользкие кремневые булыжнички, иногда попадающиеся в московской земле, небольшие алатырь-камни, медные пятидесятиграммовые гирьки и разное другое.
Имеется в виду и просто кидание, и кидание в цель. Кидать во что-то приятнее: удар помидором повергает в панику любую курицу, подходящий камень чисто выбивает стекло слухового оконца, тяжко, мягко и глухо бьют в сладостное тело блудницы округлые библейские базальтики.
Но баночка с горчицей, летящая в колонку, — это, надо сказать, лучше нету! Она увесиста и как раз по детской руке. Она летит, как бы кувыркаясь из-за вязкой субстанции содержимого, делающей динамику полета неповторимой и необычной. Она раскалывается, сотворяя целых четыре звука: звон стекла, чугунный гуд самоё колонки, а потом — если крышечкой карболитовой — сперва хруст, словно кто наступил на большого жука или патефонную пластинку, и уж после — звон и гуд. И шлепок. Это горчица саданула. Мягко и тяжко, словно в тело блудницы, или смачно, как бланманже в рожу кинокомика. К тому же горчица хоть и цвета продриси, что опять же умора, а пахнет хорошо и резко, и — самое интересное! — кидаешь целый день, а взрослые не останавливают. А баночек с горчицей сколько угодно.
Откуда?
Из продуктовой палатки, которая возле колонки.
Как это?
Так это. В палатке осталась только горчица.
А где остальное?
Унесли продавцы.
А взрослые почему не останавливают?
А они тоже где могут берут что могут…
В палатке, кстати, больше никогда не будет продуктов, и ее растащат на топливо; в других же магазинах в ближайшие четыре года будут стоять роскошные штабеля крабовых консервов с иностранной надписью «ЧАТКА», но их никто не станет брать. Будут голодать, а крабами отовариваться не будут, будут в ужасе есть мороженую сладковатую картошку, а крабами отовариваться не станут. Не станут сдабривать картошку крабами и делать салат-оливье, ибо познание по этой части придет много позже, где-то между космополитами и космополетами, а пока даже историческое время замполитов не наступило, хотя после описываемых в рассказе событий сразу же и наступит.