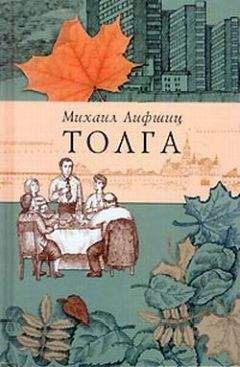Такое простое соображение, что раз не известна болезнь, то нечего лезть вовнутрь, не приходило родителям в голову, а я к тому времени жил отдельно, считался постылым и к обсуждению серьезных семейных вопросов не допускался, несмотря на солидный личный опыт борьбы с той же самой болезнью. Я говорю об этом с уверенностью, потому что несколько раз не давал докторам лечить своего сына.
Учился я не очень-то, в институте связи это было возможно. Учебный план выполнял, «пятерки» на экзаменах получал, но серьезно занимался только так называемой студенческой научной работой.
Я стал своим человеком на кафедре антенн, со мной здоровался даже заведующий профессор Айзенберг, лауреат и крупнейший ученый в институте связи того времени, но глубокий старик, по моим тогдашним понятиям.
Делал я задачи для другой, не такой сильной теоретически кафедры линий связи. Однажды весной к нам на кафедру антенн зашел аспирант с той кафедры и стал рассказывать моему шефу, тоже аспиранту, что едет летом в командировку в Геленджик по теме, по которой я как раз и работал. Я влез в разговор и скромно спросил, не нужен ли ему мальчик для растирания красок. Он, видимо, "Двенадцать стульев" читал, отнесся к моему предложению серьезно и тут же достал из портфеля кучу бумаг и стал их заполнять, интересуясь, каковы мое отчество и номер паспорта.
Это был договор, по которому кафедра линий связи собиралась мне платить тридцать рэ в месяц и загружать работой. Я, было, возразил, ведь я был бескорыстным работником кафедры антенн. Но мой шеф сказал, что потеря для науки небольшая, а раз я все равно делаю задачи для той кафедры, а они согласны мне платить и взять меня в Геленджик, то, значит, большому кораблю – большое плаванье.
Перейдя с кафедры антенн на кафедру линий связи, я из студента, занимающегося наукой, стал уважаемым теоретиком. Мои куски шли без изменений в кандидатские и даже в одну докторскую диссертацию. Мне платили деньги и извинялись, если был перерыв.
Аспиранты на кафедре линий связи были в основном приезжие, из периферийных институтов связи, им нужно было защититься и вернуться домой на хорошую должность, поэтому они радовались любому интегралу, который можно было вставить в диссертацию.
Про тридцать рублей в месяц я родителям сказал, а про Геленджик – нет, боялся сглазить, по ночам плохо спал, волновался, что сорвется командировка. Но командировка получилась, я сдал сессию и полетел в Геленджик, даже попер с собой тяжеленный генератор. Правда, денег мне дали только на дорогу, а студенческие суточные (из расчета 50 копеек в день) и деньги на гостиницу обещали прислать переводом. Ехал я один, мое новое руководство рассудило, что мне нужно отдохнуть до начала экспериментов недельки две. У родителей я денег не попросил, ведь я ехал в командировку.
Командировочные пришли через две недели, одновременно с приездом основной группы работников. На что я прожил эти две недели, я не могу сейчас вспомнить. Помню только, что из гостиницы меня не гнали и оплаты не требовали, все-таки у меня была командировка на гидробазу, и исчезнуть бесследно я не мог. Мало того, добрая работница гостиницы даже дала мне в долг, кажется, три рубля, зато потом рассказала моему шефу-аспиранту, как я «у них голодал».
По приезде в Геленджик я написал родителям письмо, в котором после описания местности и народонаселения отметил, что командировочные не пришли и, если в течение нескольких дней не придут, жить мне будет не на что. Родители довольно быстро перевели мне 20 рублей. Зато после возвращения в Москву я имел беседу с отцом, в ней он выказал все свое презрение ко мне, как представителю золотой молодежи, которая прокучивает деньги на курортах, а потом пишет своим родителям и вскользь, не прямо, а в контексте пошлого письма, с милым кокетством требует денег. А родители должны сами вылавливать в этом фиглярстве суть дела и решать, посылать ли и сколько.
По его мнению, такое поведение отвратительно. Я так захлебнулся от несправедливости, что ничего не смог сказать.
В сентябре я немного поучился в институте, а потом все поехали «на картошку», а я – снова на эксперименты в Геленджик. Так что стал я к этой кафедре прирастать, начал уже помимо теории почитывать книжки про провода и кабели, которых в глаза не видел и в учебной программе не изучал. Дальнейшая моя карьера тоже клонилась в эту сторону – меня оставляли после института инженером на кафедре линий связи. Все складывалось определенно, и о выборе места работы я не заботился.
За несколько дней до распределения на последнем семинаре симпатичный доцент Андрей Михайлович похвалил один из "почтовых ящиков", в которые нас всех засовывали, а я отозвался, что, мол, такое хорошее предприятие и недалеко от дома. Андрей Михайлович подозвал меня после занятия и спросил, причем тут мой дом, ведь, как он знает, я остаюсь работать в институте.
– Ну, ведь вы понимаете, всякое бывает, – ответил я, только чтобы не выглядеть трепачом.
– Я про вас поговорю с представителем этой конторы – у меня с ними старые связи, – предложил Андрей Михайлович.
– А если все пойдет, как запланировано, не будет ли вам неудобно перед ними? – солидно сказал я.
– Нет, нет, не беспокойтесь, я их предупрежу, – пообещал мне мудрый доцент.
А вечером накануне распределения позвонили мне домой знакомые и сказали, что меня из списка оставляемых в институте связи вычеркнули в последний момент – не прошел по пятому пункту.
На распределении мне предложили этот «ящик» и Гидрометцентр при Совете Министров СССР. Я выбрал «ящик». Сейчас-то я понимаю, что выбор сделал дурацкий, и, как обычно, задним числом вспомнил глаза женщины, приглашавшей меня в Гидрометцентр и даже пытавшейся мне что-то объяснить в неподходящей обстановке распределения.
Глаза эти внушали приглянувшемуся ей дураку с пятой графой, что ее предложение лучше. Дай Бог ей здоровья, я ее никогда больше не видел.
Я съездил на свое место работы, позаботился о том, чтобы попасть в антенную лабораторию, познакомился с начальником и продолжил обучение в институте – оставалось еще полгода, даже больше.
Вдруг мелькнула возможность все-таки остаться в институте: мама в это время делала интервью с начальницей из министерства связи, которая как раз командовала институтами, была непосредственной начальницей нашего ректора. Эта тетка, как положено, поинтересовалась, не может ли она что-нибудь сделать для журналистки. Мама тоже, как положено, поблагодарила и отказалась, связь моей дальнейшей карьеры и этой тетки как-то не пришла маме в голову сразу, а проявилась только дома в разговоре со мной, когда я всплеснул руками: "Ну, как же так!" Мама пошла к той начальнице второй раз и попросила ее за меня. У тетки, когда она узнала, что моя фамилия совсем не похожа на мамин псевдоним, было несчастное лицо, но она позвонила ректору.
Ректор меня принял и в два счета объяснил, что мне в «ящике» будет лучше, потому что там зарплата 110 и квартальные премии регулярно, а на кафедре ровно 100 и премии редки. Я утерся и ушел. У чиновников свои игры. Запомнил я этот, не имевший никаких последствий эпизод по ощущению стыда перед мамой, когда она мне рассказывала, как мучительно тяжело ей было идти и просить за меня.
Как раз в это время подходила 25-летняя годовщина свадьбы моих родителей. Годовщины свадьбы у нас в семье упоминались, но отдельно не отмечались. А тут я начал носиться с идеей отметить "серебряную свадьбу" широко и увлек ей виновников торжества. Сам я решил подарить им золотые обручальные кольца, которых у родителей никогда не было. Это мое решение было ценно тоже только как хорошая идея, потому что денег никаких от меня не требовалось – я отдавал стипендию и то, что получал "по науке", маме, а так не отдал и купил на "научные деньги" кольца. Я был очень удивлен, но моим родителям кольца понравились, и они их долго носили. "Серебряная свадьба" прошла великолепно. Как всегда у нас на праздниках, был прекрасный домашний стол, праздничная газета, стихи и подарки. В гости пришла Елизавета Ауэрбах, хорошо знакомая с мамой. Елизавета Борисовна была в ударе, и гости катались со смеху.
Впервые я привел на семейное мероприятие свою Катю в качестве "Сережиной девушки".
Должен сказать, что мы с Катей отметили свой «серебряный» юбилей значительно скромнее – мы просто пошли в ресторан.
Поздравила нас одна мама и подарила шесть ложечек из нержавейки, сказав зачем-то, что они мельхиоровые. Но этот юбилей был через много лет.
Эта история посвящена моим отношениям с родителями, поэтому не буду подробно рассказывать про наш роман с Катей. Учились мы в одной институтской группе. Она лучше успевала по физкультуре, а я по всем остальным предметам. Всего у нас в группе было семь девочек, нормальных – две, остальные – с отклонениями в какую-нибудь сторону. Вот я этих двух и смешил в перерывах между лекциями. Катя так заливисто смеялась моим шуткам и так широко при этом открывала рот с великолепными зубами, что не могла не обратить на себя мое внимание. Она же говорила, что полюбила меня, еще не видя, как только прочитала фамилию Фарбер в списке группы. Таких фамилий она раньше не встречала, поскольку была православно-рабоче-крестьянского происхождения и выросла в таком же окружении.