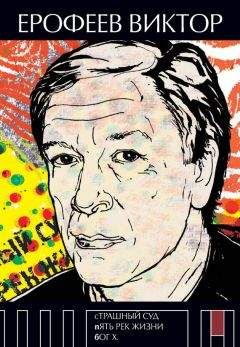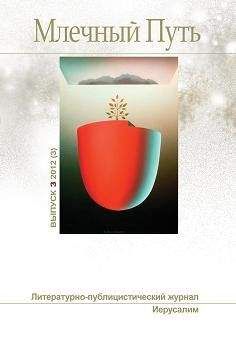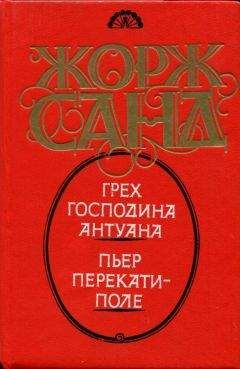Делать нечего, принц с удивлением берет его в рот.
— Ну, хорошо. А как же дети? — посреди всеобщего молчания раздается голосок Лоры Павловны.
— А как же Англия! — восклицает адвокат.
— Ничего себе некрофилия, — не выдерживаю я.
— Завидуете? — смеется надо мной адвокат.
— Отстаньте от него, наконец! — вступается за меня Лора Павловна.
— Ерунда какая-то, — бормочет капитан. — Друзья мои, а как же Господь Бог?
Он выпивает рюмку очень старого коньяка и, огорченный, покидает салон.
— Теперь мне все ясно, — говорит жена адвоката с лицом оглашенной.
— Может, хуй позже вырос, как гриб? — говорит адвокат.
— Нет, все-таки, а как же дети? — недоумевает Лора Павловна.
— Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х, — вместо катарсиса хрипит немка. — Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х.
Помощник капитана вскакивает — опля! — и начинает отбивать чечетку. Помощник — ас. Заходится в чечетке.
— А как же? А как же? А как же? — с плебейским шиком приговаривает чечеточник, широко разводя руками.
Мы начинаем хлопать в ладоши.
Псевдоцитата
Спасибо Рейну. На Рейне мне пришла до смешного простая мысль: что есть красота? Вот замки, виноградники, мелкие городки, вся эта рейнская драматургия национальной эстетики, и все говорит очень ласковым голосом: правда, красиво?
И маленький город шепчет мне на ухо: я, правда, красив?
И замок над Хайдебергом: я тебе нравлюсь? Как я могу тебе не нравиться? Ты посмотри, как забавны мои скульптуры! Ты посмотри, как они наивны и очаровательны! Выйди в сад, глянь на город. Нравится? Ну, сфотографируй меня. Ну, пожалуйста.
— Ленин прав. Надо мечтать! — сказал я капитану.
Здесь красота зависима от суждения и фотоаппарата. Здесь красота недальновидна. Почему в заштатных городах Пулии в церквах совсем иной дух? Почему в Кельне, в соборе, мне хочется вон? Почему мне тесно плыть по Рейну, мне, зажатому между двух берегов? Где запруда? И вдруг в последнее утро — светлый песок голландского берега, и я испытываю облегчение.
Предубеждение? Может быть, у меня какая-нибудь тайная причина недолюбливать немцев? Я роюсь в себе и не нахожу. Напротив! Напротив! Только хорошее!
Немецкая красота — красота! И бунт против кошечек в дадаизме, в экспрессионизме — не мой. Мне этот бунт симпатичен, но — не мой. Я зря обижаю Рейн. Он — хороший. Он — быстрый, стремительный, он общеевропейский. И меня не смущает название парохода — «Дейчланд». Дейчланд — так Дейчланд. Кто-то должен делать машины. У меня в Москве сломался немецкий холодильник. Только купили — сломался. Я удивился. Немецкий холодильник сломался! Звоню по гарантии. Мастер приезжает с готовой запасной деталью. Откуда вы знали? — Она испанская, всегда ломается. Значит, я должен это принять и признать.
— Кельн сдался! — вбежала Лора Павловна.
— Отключите в Кельне электричество, — сказал я. — Пусть у них все скиснет в холодильниках!
— Дюссельдорф тоже сдался, — сказала Лора Павловна.
— А Хайдеберг?
— Сдался.
— А Туборг?
— Это — пиво, — сказала жена адвоката.
— Ну и что? — сказал я. — Вы, может быть, знаете, сколько у Че Гевары было пальцев на ногах?
— Нет, — сказала жена адвоката. — Почему?
У нас с ней культурная невменяемость.
— Зачем ты меня не бьешь? — мимоходом спросила немка.
— Я занят мыслью, — ответил я. — Из Москвы я хочу — еду в Азию, хочу — в Европу. То есть, понятно, кудая еду. Непонятно — откуда. Кто я такой, чтобы тебя бить?
— Берлин тоже сдался, — сказал капитан.
— Почему это он сдался? — удивился я. — Мы его не просили сдаваться.
— А Париж? — спросила жена адвоката.
— Париж давно сдался, — сказала Лора Павловна. — Париж всегда готов сдаться.
— А помощника капитана нашли? — спросил я.
— Нет.
— А где он?
— Прячется в машинном отделении.
— У вас там джунгли, что ли? — заорал я на Лору Павловну. — Вы мне портите всю революцию.
— А что с адвокатом? — спросила жена адвоката.
— Не твое дело! — сказала Лора Павловна.
— В общем, так, — сказал я. — Париж населите румынами. Они этого очень желают. А всех из Парижа грузите в Румынию. На перевоспитание. Завтра!
— Господи! — обрадовалась Лора Павловна. — Неужели Европа снова станет веселой и интересной!
— Вы сначала найдите помощника капитана, — сказал я Лоре Павловне, — а потом радуйтесь.
Красота — не иное, как выдох: Боже, как хорошо! Хорошо — что? Мне не принадлежащее, мною, в лучшем случае, угаданное. Из другой энергии сотканное, а если из моей, то — преображенной. Это — в Пулии, на Сицилии. А здесь, в Германии, — имманентное.
— И верните мне мое банное полотенце, фетишистка! — закричал я на Лору Павловну.
Лора Павловна смутилась.
Немка вынула из штанов маузер и хотела ее убить. Имманентная красота. Междусобойчик. Короткое замыкание умиления. Слезы наворачиваются на глаза — подушечки, рюшечки, цветочки.
Мне же тоже сначала понравилось!
Я тоже открыл рот. Но потом закрыл и даже зевнул из равнодушия. Красота не умеет быть прирученной.
Не думаю, что жена адвоката когда-нибудь примет революцию, но нам нужны маловеры для контраста и издевательства.
Опять пришли ходоки-доходяги из дешевейших кают. Спрашивают, как жить.
— Ребята, все хорошо, — сказал я им. — Вы будете новым типом человека. Будете красиво и мягко любить.
— Амстердам тоже сдался? — спросил я жену адвоката.
— Амстердам не сдался, — сказала честная женщина.
— Молодцы, педерасты! — воскликнул я с ностальгией. — Берем курс на Амстердам!
— Нет, нет и еще раз нет! — сказал капитан. — Я отказываюсь считать Рейн космической рекой.
— Почему? — спросила жена адвоката.
— В верховье космической реки обитают души еще не родившихся людей. Значит, Швейцария — будущее мира.
— Не годится, — нахмурился я.
— А что нам делать с сакральной речной нумерологией?
— Какой еще нумерологией? — спросила немка.
— 3,7,3 на 7, 99, — сказал капитан.
— Хорошо! — растрогался я. — Вот это и есть капитан-религия?
— Как сказать, — потупился капитан.
— Долой попов! — крикнула немка и выстрелила в воздух.
— Ты хочешь ни хрена не делать и жить в шоколаде, — объяснил я ее беспредметный поступок.
Прирученная красота превращается в кич и, вывернувшись в киче наизнанку, начинает мне нравиться своим онтологическим неблагополучием.
Я взял автомат и спустился в машинное отделение. Лора Павловна тоже взяла автомат. Мы долго бродили по машинному отделению в поисках помощника капитана. Сначала мы боялись, что он нас убьет и потому ходили очень осторожно, а потом перестали бояться и ходили, и пели песни. На пути нам попался помощник капитана, но мы не обратили на него внимания, потому что он прикинулся поршнем с болтами. Потом он прикинулся еще какой-то железной установкой, из него летели искры, потом он стал как озеро ртути, и мы снова прошли мимо него.
Под душераздирающий военно-морской марш мы входим в Амстердамский порт. Народ выволакивает на набережную свою обезглавленную, когда-то любимую королеву. Амстердам — колыбель столовой клаустрофобии. Тот дом похож на солонку, этот — на перечницу. У проституток с островов Индонезии фарфоровые лица. Мы — вожди, экстремистские Гуливеры, мы братаемся с толпами революционной наркоты из кафе-шопов. На фонарных столбах, в театральных программах, газетах, на площадях, поперек каналов, в ресторанных меню один заказ: революция. Немка связала мне красные пролетарские носки. Капитан все-таки напросился вздернуть его на мачте. Сливки вечной женственности не прочь выйти за меня замуж. Капитан бесконечно рад за нас.
Кавычки напрасны. «Красота спасет мир» — псевдоцитата из Достоевского. Ее нет в полном собрании его сочинений. Но теперь мне ясно, кто это сказал. Это сказал старый Рейн.
Банан
Я — человек беспафосный. Я знаю, что мост леденеет первым. Что же тогда я делаю в Индии, если у каждого индуса вместо сердца — пламенныйТадж-Махал? Ищу Тадж-Махал. Всем миром возводим мавзолей любви. Весь кич мира стекается в Тадж-Махал. Есть ряд основных состояний, когда мудрость неотличима от тупости. Не найти Тадж-Махал в Агре, городе Тадж-Махала, все равно, что не увидеть Кремль в Москве. Но индийская несознанка — не стиль существования, как у русского придурка, а пожизненная сущность.
— Что это у тебя? — спросил я уличного торговца фруктами, тыча в незнакомый мне плод.
– Банан.
— А это?
– Банан!
— А вон то?
– Банан!
— А вон там?
— Где?