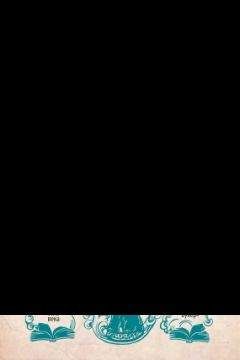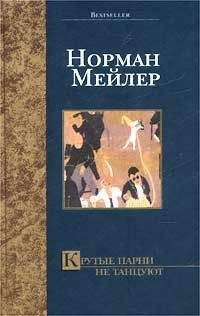— Погодите, Жан-Марк. Что вы делаете?
— Изображаю пингвина. Маэстро Суворов, не поставите ли автограф для нашего племени? Там, за дверью, толпятся еще и моржи. Не стесняйтесь, используйте лысину…
— Полдвенадцатого, господа. Не самое подходящее время для ссоры. Может, нам разойтись?
— Черта с два! Хочу проследить до конца за вашей петляющей, ящерной мыслью. Суворов — тот тоже желает, но прикидывается, что уже проследил.
— Я устал.
— Черта с два.
— Хорошо: я запутался.
— Оскар, не выйдет. Колитесь. Что там с Лирой фон Реттау?
— Насколько я знаю, она умерла. Вот только…
— Дарси, мы ждем!
— Она умерла, но как бы… не до конца.
— Частичный паралич?
— Примерно.
— Насколько я понял ваш образ, она… Вы сами рискнете сказать это слово? Не встревайте, Георгий, пусть скажет сам… Ага, еще один приступ молчания. Что ж, предлагаю игру: всем — по листику. Каждый пишет на листике слово.
Пауза.
Пауза.
Пауза.
— Ну что теперь, когда карты открыты? Все, похоже, в кроссворде сошлось?
— Не совсем.
— Расьоль, вы опять? Разве это вот, на столе, не ваш кривенький почерк?
— Мой. Но мысль не моя. Мне что-то до смерти скучно. Пожалуй, еще часок-два я подержусь за веревку… А вы потолкуйте.
— Жан-Марк!
— Да-да. Потолкуйте, а я пораскину мозгами.
-----------------------------------------------------
— …новеллы, написанные на вилле в то лето, если вчитаться, представляют собою наметки магистральных сюжетов грядущего века: человек без свойств (рассказ Горчакова); свойства без человека (растворивший хозяйку Бель-Летры в кислоте откровений Фабьен); мир без свойств и даже без человека (символический опус Пенроуза). Что лишь подтверждает нашу догадку, к которой вот-вот примкнет и Расьоль.
— Пока он упрямо сидит в стороне и злобно сверлит нас слезящимся глазом, возьму смелость предположить: из всего вышесказанного сверхзадачу для наступившего века — нашего века, коллеги, — они, с легкой руки графини фон Реттау, видели в том, чтоб вернуть литературе мир, в него — человека, а ему — его свойства. Такое вот нам завещание…
— Это кому же по силам, Георгий? Глухому, слепому, немому? Получается трагикомедия. Не забывайте, что мы — персонажи.
— Увы. К тому же — жертвы синхронности. Получается постмодернистская пьеса.
— И Лира (потом и Элит с Р. Аттилой) спит с нами со всеми одновременно как раз для того, чтобы… Чтобы что?
— А разве могла она… осуществиться иначе? Подумайте: вся наша культура — это, простите, фаллоцентризм. С точки зрения сей парадигмы…
— Что ж вы запнулись? Хотели сказать, у нее не было выбора?
— Выбор, возможно, и был. Но тогда — что бы было в остатке? Три самца, и один из них победил? Не-ет. Лире надобно было, чтобы ею в ту ночь обладали все трое. Лишь так все они, победив, и могли в итоге признать свое поражение. Причем только в том случае, если никто из них не был первым, хоть и надеялся, что им, первым, все-таки был. Однако надежду его никак не проверить, потому что после той ночи не у кого даже спросить… Так сказать, три победителя перед лицом своего пораженья. Обладатели необладаемым, обладающим самими этими обладателями, ибо имя ему — не Лира фон Реттау и даже не Литература. А то единственное слово на всех языках, которое никогда не дается в силки и лишь дразнит нас своим ускользающим запахом, казнит своей близостью, соблазняет недостижимостью, тает снежинкой в руках и всегда и повсюду всему дарит смысл… Короче, имя вы знаете — Тайна.
— Вы забыли ее покрывало — рассвет.
— Да. Рассвет. Амбивалентный, амбициозно-валентный рассвет.
— Чья валентность — надежда.
— Чье сердце — утрата.
— Чья цель — обретение.
— Недостижимая и непоправимая цель…
— Господа, разрешите представить вам гостя — рассвет…
— В самом деле. Мы засиделись. Расьоль, если вам надоело вязать из веревки петлю для хозяйки Бель-Летры, огласите в знак примирения наши записки. Итак, Лира фон Реттау — это…
— Метафора.
— Раз!
— Метафора.
— Два.
— Метафора.
— Три. Вот и получено доказательство, что все в этом мире всегда кратно трем.
— Ибо кратно своему же остатку.
— Что ж, кончайте искать дальше труп, господа. Между прочим, свой собственный труп. Скажу по секрету, мы живы…
-----------------------------------------------------
— Прежде чем разойдемся, давайте расставим все точки над «i».
— Расьоль, «все», я не ослышался? Собираетесь расчленять на этом столе то, что сами назвали метафорой? Почему бы тогда нам не вычислить полностью буковку P?
— Ну хорошо, пусть не все, так хотя бы их часть. Пробить несколько радиусов для треклятого этого круга.
— Лучше попробуйте по примеру Георгия переплыть для начала чашку нашего озера. Зачем вам лезть без нужды в океан?
— Нужда есть. Я хочу лишь понять до конца…
— «До конца», вы сказали?
— Не придирайтесь к словам. Пусть будет — до захудалого острова. Хотя бы того вон пятна.
— Острова роз? А участь несчастного Людвига?
— Тонуть так тонуть… Помните, Горчаков однажды обмолвился, будто текста было не три, а четыре?
— Помню. Вероятно, имел он в виду сочиненное ими втроем завещание.
— Вот-вот. Тогда переписывать то завещание нам, пожалуй, нет смысла: оно ведь, похоже, бессрочно. Красотки ждут от нас только подписи.
— Даже меньше, чем подписи: согласия не претендовать на обещанный гонорар.
— Тогда — что же нам делать?
— Ага. Понимаю. Дилемма: писать или нет?
— Писать.
— Лучше нет.
— Лучше нет.
— Лучше да.
— Лучше не спорить — как выйдет. Вас тревожит что-то еще?
— Да. Как быть с «плотью и кровью»? В смысле, куда девать нам веревку?
— Дилемма вторая: утопить веревку в метафоре или же удавить метафору веревкой? Ответ очевиден: выбор тут делает каждый сам за себя. Что еще?
— Все эти намеки и знаки: «птичий ковер», китайская мебель, японский сервиз…
— Восточные мудрости. Попытка изъять дуализм. Не противопоставить, а крепко связать воедино. Избежать метафизики и постоянства вещей. Заменить их идеей движения. Парением над пустотою.
— Идея Пути? Хризантема и меч? Неизменность в изменчивом?
— Вроде того.
— А надпись над аркой?
— «Будьте настороже»? Европейский стражник на входе в синтоистский храм. Остроумная шутка. Впрочем, как выясняется, вовсе не шутка…
— Смотрите, он спит. Эй, Георгий!..
— Не надо, Жан-Марк. Пусть немного погрезит. Мы ведь с вами постарше, — нам и быть в это утро настороже… Все. Довольно. Я умолкаю. Therestissilence, как любит говаривать толстый занудный чудак из семьи Дэништайн.
— Суворов оглох, вы онемели. Мне остается ослепнуть. Великая участь Эдипа. Кара мудростью. Вечный плен ratio. Как петля на шее. Что ж, покоряюсь метафоре… Хотя и вишу на веревке.
— Как и все.
— Это уж точно — как все. Черт возьми! Своего вы добились: даже веревка теперь обратилась в метафору…
Пауза.
Пауза.
Пауза.
За окном шелестит ветром времени дождь.
Флюгер пляшет по кругу.
Часы бьют шесть раз тишину.
Утро.
-----------------------------------------------------
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ (Психея)
Иногда мне кажется, что бы я ни делала, чем бы ни была занята, все одно: я словно все время себя вспоминаю. Довольно спокойное чувство…
Из дневника Л. фон Реттау«Если твое явленье на свет ознаменовано одновременной потерей обоих родителей, трудно отделаться от ощущения навязанной тебе судьбою избранности. Я часто думаю: что означал тот миг, когда трясущийся со страху акушер — свидетель материнских мук и смерти — перерезал под стекленеющим взглядом испускавшей дух роженицы пуповину, эту уродливую трубку, соединяющую бытие с небытием? Почему дверь, через которую вошла я в этот мир, тотчас захлопнулась — за той, кто, жертвуя собой, меня сюда впустила? Как понимать этот обмен — двух жизней на одну, зачатую слиянием их тел и возвестившую первым же воплем (восторга? отчаяния?) торжественно-жестокую минуту, что связала холодным взором вечности их устранившиеся души? Что предначертано мне возместить в нарушившемся равновесии природы, избравшей, вопреки естественной задаче своего преумножения, утратить вдвое от того, что было прежде, и втрое — от того, что было бы должно образоваться, будь мой приход сюда всего только рутинным случаем семейного воспроизводства? Какой был прок в лишении меня любви — грошового и незатейливого подношения со стороны простейшего инстинкта, дарующего нам наивную привязанность к тем, благодаря кому (из-за кого!) мы существуем (ну а я — сосуществую с ощущением утраты, покуда длится отпущенный мне срок)? Любовь невозможна без памяти. Наша невстреча обокрала меня на всякие о них воспоминания, предложив довольствоваться потугами сумбурного воображения, плутающего в потемках залы между двумя молчащими портретами, воскрешать которые, всякий раз угнетаясь сомнением, дано лишь моим робким грезам. Однако позволительно ли почитать за истинное — чувство, ютящееся только в сновидениях? Ведь потом каждый раз наступает утро — это пробуждение от любви, что высыхает слезой на щеке в какие-нибудь пять минут, обращаясь в несбыточную иллюзию.